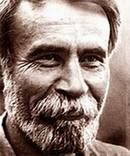Именно эта сцена лучше всего проясняет авторские намерения, выявляет программу всего романа: эстетическими средствами справиться со «страшной реальностью». В пределах главы «Белый дом без политики» Маканин «заговоривает» демонов вражды, идеологического раздора, оголтелой и бессмысленной борьбы за власть. Он не различает «правых» и «виноватых» в этом конфликте, он даже не противопоставляет – в духе литературно-гуманистической традиции – взывающую к сочувствию «самость» маленького человека безличным и безжалостным жерновам политического процесса. Вместо этого писатель стремится — в художественном пространстве своего текста – «переиграть» данный план реальности, «приватизировать» и тем самым опровергнуть его.
В этих целях Маканин вовсю пользуется инструментом остранения. Он не просто показывает некий сакраментальный – и трагический — исторический феномен в непривычных ракурсах: изнутри, с тыла, с фланга. Он задним числом лишает его «действительности», серьезности, деконструирует – с помощью смешных, нелепых, невероятных подробностей, выплесков вожделения и сексуальной энергии, наркогенной трансформации реальности, сплава макабра и юмора.
В маканинской (апокрифической) версии развития событий именно сатирическая» пляска голого Алабина — после его эротического торжества — на крыше Белого дома, в перекрестье прожекторов, воспринимается как знак капитуляции защитников парламента и тем самым кладет предел насилию: «И как бы запасным вариантом сигнала о сдаче Дома (решающим в те минуты сигналом) стал одинокий человек без автомата – голый, на самом верху. Прожектора нашли его почти сразу. Луч зафиксировал… Голый – это как раз и означало, что ресурсы защитников истощились. На нуле. Сдаемся…». И не так важно, что версию эту озвучивает «желтая газетенка», а другая, «честная», ее опровергает. Суть «мессиджа» ясна: Эрос в данном случае хитрым, окольным путем, вопреки общему правилу и Фрейду, побеждает Танатос. А иронико-мифологический подход торжествует над реализмом и историцизмом.
(В рамках такого понимания находится объяснение и почти скандальной повторяемости стержневой в романе ситуации соблазнения. Да ведь это мифологема «вечного возвращения» задействуется автором для компрометации объективных закономерностей, для опровержения унылой однонаправленности времени! Ницше, вслед за Фрейдом и Юнгом, призывается автором в союзники, приглашается на арену для потешно-серьезного ристалища.)
Маканин, однако, следуя сформулированной выше интенции, не может остановиться на столь однозначной констатации. Он прибегает к сложному композиционному решению финальной части романа. После кульминации следует «ретардация», в виде глав «Мордобой» и «Петр Иваныч в высоком полете». Эти главы возвращают сюжет пространственно в дачный поселок, в привычный жизненный интерьер Петра Петровича, снимают напряжение, снижают иронико-патетический накал повествования. А замыкает текст глава «Старики и Белый дом», дающая не развязку, а перевод темы в иную плоскость. Пребывание Алабина и Даши в парламентском здании, их приключения излагаются здесь конспективнее, суше, чем в «Белом доме без политики», с упором на другие моменты. Осмысливая картины, открывающиеся ему в здании разрушенного парламента, протагонист набрасывает в воображении несколько символических картинок/конструкций. Бьющаяся в ломке Даша – это юная Россия, мучительно освобождающаяся от тоталитаризма как наркозависимости. Старуха-уборщица, собирающая таблички с именами вышвырнутых из своих кабинетов начальников, — провозвестница перемен, символ самой Истории. Но тут же он – снова в духе «творческой фальсификации» — опровергает собственное романтическое мифотворчество, возвращаясь мыслями к «сухому осадку»: разгром, разрушение, ненужные жертвы – не судороги рождения новой России, а всего лишь аксессуары смены власти.
На последней же странице романа Петром Петровичем, еще недавно преисполненным гордости за свою удачливость и мужскую состоятельность, овладевает горькое ощущение потери, отставания – кучка седовласых стариков, его товарищей по поколению, наблюдавших за «историческим событием», рассеялась, будто ее и не было — развлоплотилась. Присоединиться к «референтной группе», слиться со своей общностью он не смог.
Заключая это рассуждение, можно сказать, что в «Испуге» Маканин конструирует очень сложное, внутренне амбивалентное высказывание о последнем периоде российской истории — но и о человеческой жизни, об «экзистенции». В этом высказывании соединяются ирония, жалость, сарказм, фантасмагория. В то же время писатель ищет для своего фиктивного героя (своего «alter ego»?) способ противостояния инертной и враждебной реальности. Эротическая самореализация в ее буквальности и условности, привязка к мифической ситуации «сатира и нимфы» со всеми ее оттенками и поворотами, символика «высокой луны», социальная притча и гротеск, сплав сакрального и обсценного – все это мобилизуется для борьбы с невыносимой тяжестью бытия: с его физическими невзгодами, одиночеством, однообразием и социальной жестокостью.
Как ни странно, столь эклектичный и, казалось бы, искусственный инструментарий действительно создает в итоге освобождающий эффект – «мир» ловит, но не может поймать протагониста, в образе которого повадки древнего сатира сочетаются с неуязвимостью плута-пикаро и бесшабашно-грустной стойкостью нашего современника, оловянного солдатика.
P.S. Можно ли считать, что мы в своем анализе достигли тверди, выявили надежное основание, на котором Маканин возвел свою сложную литературную конструкцию? Я в этом не уверен. Боюсь, что самый глубинный источник этого текста – авторский произвол, насмешливый и безотчетный, свобода, оборачивающаяся капризом, озорством. Стихия смеха с примесью горечи и испуга.
Помните, как Пушкин заканчивал свою эротическую сказку «Царь Никита и сорок его дочерей»? Вот именно. Это же, думаю, мог бы сказать по поводу своих моралистически озабоченных критиков и излишне серьезных интерпретаторов Маканин – «Что за дело им? Хочу».
[1] Можно, конечно, видеть здесь «мотивные переклички» и с «Темными аллеями» Бунина, трактуемыми часто в ключе предзакатного эротизма.
[2] Здесь и далее цитируется по: Маканин В. Испуг. М.: Гелеос. 2006.
[3] Набоков В. Приглашение на казнь. Лолита. ……. С. 200.
[4] Промельком возникает в тексте цитата из Гумилева: «Сказка в изгибе колен».
[5] Так, в главе «Неадекватен» рассказ о пребывании героя в психиатрической больнице точно воспроизводит аналогичную ситуацию в «Андеграунде». Там же Алабин рассказывает о том, как его выбрасывали в снег из ночного автобуса – явная отсылка к роману «Один и одна».
[6] Тут уместно вспомнить Томаса Манна, писавшего в «Иосифе и его братьях» о «лунном» мироощущении человека древности, еще только начинавшего выделять собственную индивидуальность из нерасчлененного потока бытия, еще не закрепившего свой ясный, субъективный взгляд на мир.
[7] О «сладострастье», определяющем поведение и жизненную позицию героя «Испуга», рассуждали О. Новикова и В. Новиков (см. Новикова О., Новиков В. Сладострастье потеснило сердечность. Или нет? // Звезда. 2007. № 3), в целом высоко оценившие роман.
[8] Особенно хочется отметить фрагмент, показывающий, что Маканину легко дается и пелевинская «психоделическая» манера с ее миражными озарениями: «Но я, конечно, вернулся к Даше. А как же!.. Осколки стекла… Эти осколки под ногами были кусочками моего мозга, и я (помню) шел прямо по ним… По серому веществу… В моих извилинах похрустывало-похрупывало… Хруп-хруп! (Мысль-мысль.)
Я шагал и чувствовал: выявляется через звук хрустальная сущность гомо сапиенс. Когда мысль нас осеняет, она тут же гибнет. Вот в чем правда. Поняв мысль, мы ее давим!»