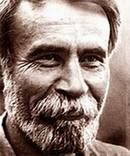Однако не следует поддаваться на авторскую «подначку» и воспринимать истории, образующие «Испуг», в реалистико-психологическом ключе. Протагонист Петр Петрович, при всей его внешней простоте и распахнутости, при многочисленности и подробности самоаттестаций, — отнюдь не «живой и полнокровный» романный герой. Он в большой степени сконструирован, функционален, он явно выполняет авторское «задание», лежащее не на поверхности. На уровне отдельно взятого эпизода, микроситуации, конкретной человеческой интеракции – все точно, достоверно, узнаваемо. В масштабе же целого явно выявляется заданность образа, его жесткая подчиненность авторской воле. Не случайно на первой странице романа, написанного в целом от первого лица, Алабин «вводится» объективно, авторским текстом: «В лунную ночь старикан Алабин, как правило, бродит по дачному поселку. (А лучше б спал!) На ночной дороге он в профиль покажется вырезанным из черной бумаги». Картонная, даже бумажная фигура! Характерно в этом абзаце и упоминание «знаковой интеллигентности», как бы предписанной его образу.
Мотив этот форсируется в рассказе «Мои воровские ночи». Одна из лунных партнерш Петра Петровича вдруг выражает сомнение в его реальном существовании: «А вообще-то днями ты живой… Хотя бы вообще… Тебя следует пощупать… Ты днем существуешь?
В полной темноте я тихо качаю головой – нет».
Знаменательное, хоть и запрятанное в толщу текста, признание сомнительности собственной природы. Дополняется оно возникающими пунктирно по ходу текста возвратами к взгляду на героя со стороны, извне, к разговору о нем в третьем лице.
Более того – жизненный антураж в романе, призванный служить добротной основой для эротических узоров, оказывается каким-то странным. Он возникает на стыке противоположных изобразительных методов. С одной стороны – точность, фактурность, нагота описаний и анализа. Никакого флера, тумана в представлении героя, его окружения и поведения, его жизненных обстоятельств, мотивов и целей. Эмпирика дается с грубоватой и беспардонной откровенностью. С другой – на уровне композиции и смысловой архитектоники субстанция текста постоянно выдает свою искусственную, литературную природу. Ситуации «соблазнения», принудительно повторяясь, воспроизводят некий исходный архетип и совершенно выходят за рамки житейского правдоподобия. По тексту разбросаны многочисленные цитаты и автоцитаты[5], замыкающие читательское восприятие на литературных артефактах, в том числе принадлежащих самому Маканину. Риторическая установка повествования резко переключается с натуралистической описательности на эйфорическую восторженность обладания, а оттуда соскальзывает в сентенциозную рефлексивность.
Многие образы и ситуации «Испуга» двоятся, «оборачиваются». Олег, внучатый племянник героя, в открывающей роман главе «Неадекватен» – солдат, воевавший в Чечне, однако бодрый и современный, постоянно пикирующийся с «дедом», дабы внушить тому правильное представление о его – сугубо маргинальном – месте в мире. А в рассказе «В утробе» тот же Олежка – человек не просто контуженный, а раздавленный войной, заслуживающий жалости аутсайдер, без желаний и вкуса к жизни. Единственная его отрада и успокоение — зарыться в землю, свернувшись клубком, словно возвращаясь в материнскую утробу.
Таким же он представлен и в рассказе «Танки проехали», где безуспешно пытается преодолеть импотентский комплекс, взбадривая себя грохотом проезжающих танков. Там, в Чечне, езда на дрожащей броне возбуждала солдат, как любовь…
Может быть, это – небрежность автора, забывшего подкорректировать неувязки, возникшие при поспешном соединении отдельных опусов в «роман»? Но обычно Маканин такой расхристанности себе не позволяет. А кроме того, в «Испуге» есть и более многозначительные примеры разночтений, рассогласований. Один и тот же сюжет – поездка Алабина в Москву с юной соседкой по поселку и попадание в гущу событий вокруг Белого дома – предстает в «Белом доме без политики» и в «Стариках и Белом доме» совсем в разных ракурсах. Что за причина?
А время в романе — оно стоит или движется по кругу? 1993 год, год «великого противостояния» президента и Думы — главная смысловая веха в тексте, к нему автор и герой-рассказчик возвращаются снова и снова. А между тем старик Алабин в 93-м году – тот же старик, что и в эпизодах, где появляется Олег, вернувшийся с чеченской войны. Нет, хронология «Испуга» странная, мерцающая, какая-то, что ли, мифическая…
Ключевое слово произнесено. Почти все писавшие об «Испуге» поминали миф, но с некоторым пренебрежением – мол, мифологические и символико-эротические ассоциации у Маканина элементарны, схематичны, поверхностны. Пересказ пары древнегреческих легенд, «Лунный Пьеро»… Для нашего просвещенного постмодернистского периода, поднаторевшего в мифотворчестве второго и третьего порядков, — бедновато. А между тем в «Испуге» явно присутствует мифосимволическое начало, и писатель временами сознательно форсирует его. Фабульные пласты наползают друг на друга, как облака, и просвечивают один сквозь другой. Контуры происходящего размываются, утрачивают четкость, вокруг прямых значений образов и событий расползаются обширные символические или аллегорические ореолы[6].
Реальность, самая прозаическая и банальная, подсвечивается лучами «лунного мифа» и сполохами эллинских легенд. (Правда, сами эти «мифы древней Греции» в маканинском изложении насыщаются ироническими бытовыми деталями и психологическими нюансами, как история сатира Марсия, состязавшегося с Аполлоном. Тем самым они отчасти дезавуируются.) Эротический дискурс здесь осциллирует между грубой, плотской чувственностью и приобщенностью – через сквозной образ луны – к некоему высокому ритуалу, таинству.
Это, однако, не значит, что Маканин создает в книге собственный вариант «мифа рубежа веков». Такой претенциозностью «Испуг» не страдает. Элементы мифопоэтической парадигмы, присутствующие в тексте, используются автором в определенных «служебных» целях. Писатель с их помощью сигнализирует: в повествовании присутствует надэмпирический смысл. Буквальное прочтение текста допускается, но вполне различим призыв к более обобщенному и «сублимированному» пониманию. Попробуем очертить его контуры.
Начнем с именования. В рамках журнальной публикации цикл повестей и рассказов о Петре Петровиче назывался «Высокая-высокая луна». Почему Маканин сменил его на «Испуг»? Ведь изначальное название — тематическое, оно связано с содержанием и тональностью повествования прямыми, ясными ассоциациями.
Ясность-то автору, очевидно, и не нужна. «Испуг» — образ неожиданный, многоуровневый, в чем-то лукавый. Смысл его намечается эпиграфами, тоже, скорее всего, принадлежащими перу Маканина. Испуг – это эмоция героя перед лицом собственной дерзости, в ситуации «эротического поединка» — какова будет ее реакция, справлюсь ли сам? Да еще и с опасливой оглядкой на обстоятельства – не вернулся бы «законный». Словом, напряженное испытание любовью в самом низовом, физиологическом и житейском понимании.
Испуг – это и явно не обозначенное, но намеченное перманентное самоощущение Петра Петровича на протяжении всего романа: страх бессилия, одиночества, болезни, смерти. Страх старости как бытийного состояния.
Феномен старости Маканин рассматривает здесь пристально, с разных сторон. Он касался этой темы и раньше, например, в «Голосах», «Предтече» и «Отставшем». В последней повести писатель виртуозно ассоциировал со старостью символический, комплексный образ «отставания». Однако здесь, в «Испуге» он сходится со старостью вплотную, хотя и опосредует по своему обыкновению житейскую, «натуралистическую» проблематику сложной системой рефлексивных отражений и преломлений.
Старость и эротика… Для старика Алабина его похождения и приключения – не просто средство удовлетворить «сладострастье»[7] (сноска), но и экзистенциальный «адреналин», способ сохранить мужское и человеческое достоинство, возможность удержаться на плаву. Сексуальный опыт позволяет герою чувствовать себя живым.
Алабин, помимо прочего, отстаивает право на «место под солнцем» (еще один старинный маканинский образ-концепт), в том числе в пикировках со своим молодым родичем Олежкой – не контуженным интровертом, а вторым, напористым и нетерпеливым, норовящим поскорее вытолкнуть деда из жизни. Старик должен знать свое место и не высовываться! Он должен поскорее освобождать «жизненное пространство», по праву принадлежащее людям молодым и современным.
И тут мы касаемся еще одного смыслового пласта, связанного с понятием «испуг». Имеет место испуг перед жизнью как таковой, перед новой, непривычной, зловещей и смехотворной жизнью. Фабула романа разворачивается на приглушенном, но ощутимом фоне всеобщего неблагополучия, ущербности, распада. Всеобщего? Нет, сконцентрированного в первую очередь на поколении Алабина, поколении пенсионеров – инженеров, врачей, учителей, работяг советской эпохи, которые не только обездолены, опрокинуты в нищету случившимися переменами, но и попросту выброшены на обочину жизни – чтобы не сказать, под откос. Эти люди, принадлежащие к виду Homo Soveticus, вступили в 90-е годы в свою закатную (биологически) пору. А слом привычного социального уклада окончательно выбил у них почву из под ног.
Они – герой и его поколение – стоят, таким образом, перед трояким вызовом: биологическим (угасание либидо, болезни, близость смерти); житейско-социальным (нищенское пенсионное прозябание); экзистенциальным (ощущение собственной ненужности, несовместимости со временем).