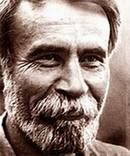В романе, по сути, сквозь преломляющую призму эротики демонстрируются процессы разные и важные. Дачный поселок, где Петр Петрович проживает в своем «осьмушнике», скромной пристройке к просторному дому, — показательный полигон/хронотоп, модельная территория. На эту плоскость, как в театре теней, проецируются явления обыденной жизни и существенные, ключевые события российской постсоветской истории. Все перемены и потрясения этой поры здесь упоминаются, иллюстрируются, предстают в метонимической и часто гротескной форме. Вот, например, опьянение политическим плюрализмом и многопартийностью первых лет свободы. В главе «За кого проголосует маленький человек» Маканин откликается на нее насмешливо-скабрезной гиперболой: возлюбленная героя Лидуся и во время акта не может оторваться от телевизионных дебатов, ритм тел любовников воспроизводит подъемы и спады политической дискуссии, эротический интим оказывается заключенным в квадрат: он, она, телевизионный экран и возвышающаяся надо всем луна.
Лихорадочная приватизация начала 90-х годов зафиксирована в «Испуге» приметливыми наблюдениями Петра Петровича над социальными процессами, меняющими облик поселка: «С той стороны речушки, держась друг друга, расположились дачами наши состоятельные люди – у нас их зовут «средненькими». (Словцо «богатые», «богатенькие» все еще провокативно. Не надо нам его. Пока что.) <…>
По эту сторону речки разномастная голытьба. Когда пробил день послабления (а в нем, в этом дне, – час дележа), из Москвы хлынули толпы, с тем чтобы окружающую землю приватизировать – захватывать, брать, покупать. <…> Главное – прихватить землицы. А там кое-как слепил из досок сарайчик, вот и дача!.. А уж потом связаться с какой-нибудь воровской стройкой. И строить, и строить дальше, по возможности, обворовывая вора. <…> Сарынь на кичку».
Тема «прихватизации» в сочетании с мотивом криминального беспредела получает гротескное развитие в главе «Мои воровские ночи». Обитатели поселка становятся по ночам жертвами дерзких воровских набегов со стороны неких чужаков, анонимных и загадочных «малаховских». Нет пощады имуществу – выносят все! Ситуация дает протагонисту возможность поупражняться в саркастической насмешке. Люди, мол, готовы истерически охранять свое добро, барахло, «вещи», не замечая, что самое существенное уже безнадежно утрачено, пропало: «Но даже, если сон их свалит, во сне они будут стеречь вещи… Обязательно вещи, но какие?.. Наши поселковцы стерегут в своих снах фантомы. Эти вещи в реальности уже украдены – украдены вчера или позавчера…». И, как финал этого внутреннего сюжета, обескураживающее открытие: нет никаких «малаховских» — внешних супостатов; воруют свои, поселковские, и у своих же.
А рядом – чеченская война с ее грозными эффектами и синдромами, олицетворенными в образе и судьбе Олега (главы «В утробе» и «Танки проехали»).
Жизненно-исторический фон повествования в «Испуге», если вдуматься, масштабный, драматичный, только что не катастрофический, даром, что дается он усмешливой, безпафосной тональности. В «Испуге» многие умирают, и как правило это старики: загадочная Глебовна («Боржоми»); старый знакомый Алабина Дробышев, перед смертью полезший в «общественную жизнь», а потом быстро сломавшийся («Старость, пятая кнопка»); поселковый сосед и приятель героя Петр Иваныч, погрузившийся в историческое чтение и рухнувший с крыши, которую ни с того ни с сего взялся чинить («Петр Иваныч в высоком полете»). Но самым общим и внятным знаком потерянности поколения, к которому принадлежит и протагонист, становится сквозной символический образ: кучка стариков, собравшихся рядом с площадью у Белого дома и в молчаливом испуге наблюдающих за событиями.
Один из вариантов ответа на вызов времени – исторического и биологического — рассматривается в главе «Старость, пятая кнопка». Здесь намечается альтернатива «козлоногой» резвости героя. Его давний приятель Гоша хочет завершить свою жизнь тихо и достойно, отгородившись от суеты, пошлости и опасностей окружающей действительности, погружаясь в сферу вечных, не подверженных коррозии ценностей, в миражи высокого искусства. Он проводит долгие часы у экрана телевизора, настроенного на единственный канал – канал «Культура». Для Петра Петровича — в одной из своих ипостасей интеллигента — здесь таится немалый соблазн. Однако, поколебавшись, он остается верен собственному modus vivendi – шершавому, беспокойному, суетному, связанному с риском и унижениями, зато реальному и своему.
Да и сам писатель не склонен довольствоваться локальным и тихим, эскапистским решением. Оно ведь не отвечает драматизму и напряженности жизненной картины, возникающей в романе, как и размаху авторских амбиций.
Маканин осуществляет в «Испуге» масштабный смысловой маневр. Сначала он возводит протагониста в ранг «полномочного представителя» поколения. А на следующем этапе обобщения исподволь, тонкими художественными средствами проводит аналогию между судьбой поколения, входящего в финальную фазу, и ситуацией страны в целом. Возрастной кризис индивида, печальное состояние всей человеческой генерации, к которой он принадлежит, символически отображают, по Маканину, кризисную стадию общественной жизни, сотрясаемой катаклизмами, «ломкой» переходного периода. И автор (он ведь тоже сверстник Алабина, он житель и гражданин той же страны, он стоит перед теми же вызовами) ищет свой, незаемный способ противостояния враждебной силе объективных обстоятельств, быстротекущему, к тому же ставшему враждебным времени. Ищет, конечно, специфическими литературными средствами.
Решение, разумеется, не сводится к тому, чтобы наделить «старика Алабина» сексуальной заряженностью, в которой тот находит личное «лекарство против страха». Вряд ли такой рецепт можно выписать всему поколению, а то и всей стране. Борьба Маканина с Роком носит гораздо более артистический, игровой характер.
Автор на протяжении всего романа последовательно добивается определенного художественного эффекта, который лучше всего обозначить как «творческая фальсификация реальности». Что это значит?
В субстанции текста идет постоянная борьба между фактурностью, «тяжестью бытия», данной в многочисленных приметах и деталях — и дерзкой манифестацией «власти воображения», способной рассеять серьезность и однозначность жизненной субстанции. Разные смысловые парадигмы, лексические и риторические коды, разные способы представления и интерпретации действительности сталкиваются здесь, оттеняя друг друга, обнаруживая собственную ограниченность, но и условность, конвенциональность действительности. Серьезное и смешное, трагическое и фарсовое, сокровенное и профанное, реалистическое и мифическое пересекаются, интерферируют – и взаимно упраздняются, «аннигилируют».
Пространство романа гетерогенно, составлено из фрагментов разной природы. Здесь все надо понимать буквально – и иносказательно, видеть все в прямом свете – и в преломленном, в качестве объемного изображения – и в проекциях на разные плоскости. Сеанс демонстрации слайдов в главе «Нимфа» — один из ключей если не к смысловому посылу романа, то к способу его восприятия. Следя за взглядом протагониста/автора, следует самому постоянно корректировать свою «точку зрения», ракурс наблюдения, чтобы улавливать меняющуюся перспективу…
Последовательно используя эту методику, Маканин выводит своего героя из «бесконечного тупика» дурной временности и безнадежного историзма, дарит ему ощущение освобождения и торжества над жизнью. Одновременно он обозначает и иллюзорность, литературную условность такого решения.
В этом смысле ключом к адекватному прочтению романа является, конечно, глава «Белый дом без политики». Она-то и зачинается знаменательной и вызвавшей столько нареканий фразой «Старый хер, я сидел на краешке ее постели», маркирующей привычную ситуацию ночного соблазнения. Алабин влюбляется в юную и ослепительную Дашу, дочь высокопоставленного московского чиновника. Однако действие на сей раз вырывается за пределы дачного поселка – в Москву, в Москву. Герой становится попутчиком Даши, которая мчит к Белому дому, чтобы разжиться позарез необходимой дозой наркотиков. Там оба попадают в известный исторический «переплет».
Приключения героя в здании Думы в день (и ночь) обстрела и штурма даны Маканиным в смешанной, трагифарсовой тональности, с обилием подробностей, то пронзительно достоверных, то замешанных на черном юморе. Есть и мотивировка фантасмагорического колорита многих эпизодов, сама по себе, впрочем, гротескная: старик Алабин нечаянно нанюхался и нализался «кислоты» по ходу ласк с Дашей, прятавшей «неприкосновенный запас» на своей роскошной груди…
Глава эта – раньше, как и другие, опубликованная в качестве самостоятельного рассказа — написана на редкость динамично, даже взвинченно, с кинематографической сменой кадров и планов, с картинной рельефностью деталей, с подчеркнутой обостренностью восприятия протагониста и эффектными перепадами тональности. Любовное возбуждение Петра Петровича, жаждущего не упустить свой «шанс» с Дашей, опасные поиски девушки в опустевших «коридорах власти» сменяются сценами наркотической эйфории, овладевшей непривычным к кайфу героем. А за ними следуют эпизоды танкового обстрела, пребывания «под огнем», ранения одного из персонажей, сначала представленного в шутливо-балагурном тоне, но обернувшегося в итоге «полной гибелью всерьез». Моментальные зарисовки событий и статистов, кровь, страх, вожделение, визуальные эффекты измененного сознания[8] – все это соединяется в пеструю, подвижную и весьма экспрессивную картину. Маканин здесь – на высоте своего изобразительного и риторического мастерства.
Это, разумеется, не помешало многим обвинить писателя в кощунстве и зубоскальстве при обращении с трагической темой, в пляске на костях погибших.
Положим, автор разбросал по тексту главы немало «реверансов», убеждающих (устами протагониста), что намерения и воззрения его – исключительно гуманные и пацифистские, что он против насилия и кровопролития: «Из тех моих чувств я помню сейчас лишь самое сильное. Это чувство было – жалость. Я жалел что тех, что этих. С обеих сторон было и участвовало много простаков – и я более всего жалел этих придурков, черную кость всякого бунта». Но подлинный смысл, подлинная художественная установка этого действительно странного и эпатирующего текста раскрывается не на уровне подобных манифестаций политкорректности.
Кульминационной точкой главы служит сцена ночной близости Алабина с Дашей, когда старик не просто реализует недостижимую эротическую мечту, но и сексуальной своей активностью спасает девушку, подавляет ее наркотическую ломку. А за этим следует совсем уже фантасмагорический катарсис – появление голого и возбужденного Петра Петровича на крыше Белого дома, над спящей Москвой, его невнятная, восторженная молитва о прекращении братоубийства, переходящая в буйную эйфорическую пляску, вновь актуализирующую мотив «сатирмэна» и мифологические ассоциации.
Впрочем, возникает здесь и сниженная реминисценция царя Давида, «пляшущего перед Господом». И снова характерно-парадоксальное решение — столкновение взимоисключающих эмоциональных состояний и риторических установок. Молитва – сразу вслед за половым актом, прикосновение к сфере сакрального – и едко-иронический автокомментарий, проникновенность – и скабрезность, исповедальность – и уничижительная объективация: «Безусловно, в том моем подлунном стоянии было торжество и была мольба. Первая молитва в жизни!.. <…> А нагота – это только открытость. Нагота – как допустимое слабоумие. Небо открыто для слабоумных и нагих. Я был свободен от одежды. Я был свободен от людей – и я хотел настучать на них Богу. <…> И ведь я ничего не просил для себя. Разве что еще разок просто поиметь весь этот мир. <…> А иначе почему у меня встал?.. От высокой взволнованности. От испуга… Бывает.
На высоте дух ликовал!.. Лишь тут старикашка заметил, что стоит со стоящим. Старикашка, похоже, спятил. Старикан был нагой и улыбался…»