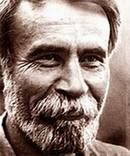Роман «Испуг» погрузил в недоуменные раздумья и поклонников, и оппонентов Владимира Маканина. Действительно, зачем это понадобилось прославленному автору, практически классику: ряд экзерсисов, грубовато и с утомительными повторами трактующих тему стариковской эротической активности в интерьерах подмосковного дачного поселка? В двенадцати опусах разного размера новый (ново-старый) герой Маканина, пенсионер Петр Петрович Алабин, в возрасте под семьдесят, занимается, с легкими вариациями, одним и тем же: в лунные ночи прокрадывается на веранды обитающих в поселке «молодух» и не мытьем так катаньем, сразу же или в ходе повторных визитов, добивается их близости. И упивается – волшебным блеском луны, роскошью юной женской плоти, собственной безотказной мужественностью…
Роман «Испуг» погрузил в недоуменные раздумья и поклонников, и оппонентов Владимира Маканина. Действительно, зачем это понадобилось прославленному автору, практически классику: ряд экзерсисов, грубовато и с утомительными повторами трактующих тему стариковской эротической активности в интерьерах подмосковного дачного поселка? В двенадцати опусах разного размера новый (ново-старый) герой Маканина, пенсионер Петр Петрович Алабин, в возрасте под семьдесят, занимается, с легкими вариациями, одним и тем же: в лунные ночи прокрадывается на веранды обитающих в поселке «молодух» и не мытьем так катаньем, сразу же или в ходе повторных визитов, добивается их близости. И упивается – волшебным блеском луны, роскошью юной женской плоти, собственной безотказной мужественностью…
Большинство шокированных (это в наше-то раскованное время!) читателей, рецензентов и критиков сошлось на том, что Маканин задался целью вновь сфокусировать на себе рассеивающееся внимание публики и доказать свою рыночную конкурентоспособность, а заодно порезвиться, «оторваться». Для этого он и прибег к скандально-клубничному сюжету, попытавшись изукрасить его набоковскими («лолитовскими») реминисценциями. И только ленивый не поиздевался над дизайном обложки книги, выпущенной издательством «Гелеос»: сатир в окружении возбужденных нимф, вызывающие латинские S среди кириллицы заголовка и «надзаголовка», «вводная» цитата из текста, начинающаяся словами «Старый хер…».
Признаю, что апология романа «Испуг» — предприятие непростое. Но дело ведь не в том, чтобы защитить Маканина – он, с его рангом и статусом, в такой защите не нуждается. И не в том, чтобы отыскать в этом действительно озадачивающем тексте – жанровое определение «роман» в данном случае весьма уязвимо, хотя им и придется пользоваться в целях удобства – не присущие ему достоинства. Ибо фирменные качества маканинского письма в нем наличествуют, это признают и самые жесткие критики: филигранная точность деталировки, многообразие ракурсов, богатство интонационных регистров. Так что важно другое: понять «послание», которое содержится в этом произведении. Ибо трудно поверить, что знаменитый прозаик на старости лет отправил по водам прочно запечатанную бутылку – при этом пустую, без смыслового наполнения, без «мессиджа», который стоило бы трудиться расшифровывать.
Итак, начнем… «Асимметричный ответ набоковской «Лолите»», о чем уведомляет анонсирующая фраза на задней стороне обложки – это, конечно, рекламный ход. Однако параллели с Набоковым отнюдь не бессмысленны, хотя не столько содержательно-стилистические, сколько в плане метатекстуальной авторской стратегии и мотивации. Ведь биографические и экзистенциальные обстоятельства авторов к моменту написания ими «Лолиты» и «Испуга» соответственно во многом схожи. У одного в прошлом – переезд из Европы в Америку, переход с русского языка на английский. У другого – тоже перемещение (пусть и непространственное) в незнакомую страну, тоже обретение нового – художественного – языка. У обоих нервозность, досада по поводу недостаточной востребованности со стороны новой публики, страх маргинализации, желание самоутвердиться и доказать…[1].
Подобные параллели, однако, не многое объясняют. Ибо очевидно, что не только внешние (в том числе возрастные) причины руководили Маканиным, искушенным и амбициозным «текстоводцем», в данной кампании. Попробуем отыскать более глубинные.
Итак, победоносно разливающаяся эротика, манифестации желания, реляции о свершениях в этой сфере… Алабин, настойчивый в своих устремлениях, на диво бодрый физически, снова и снова проходит свой «заколдованный» круг: увлечение очередной пышно-соблазнительной женской фигурой, вступление в фазу влюбленности, приготовление, наступление ночи с ее лунной магией, возбуждающей и вдохновляющей старика – и, наконец, удовлетворение, почти неизменно получаемое в кровати на очередной дачной веранде (в крайнем случае – в неудаленной комнате).
Изображение «сатирических» подвигов Петра Петровича (отчество намекает на непрерывающуюся связь со сквозным и меняющимся героем Маканина) не поражает богатством, разнообразием или особенной утонченностью. Сюжет победы повторяется с нарочитым постоянством, и даже обстоятельства, детали почти во всех случаях совпадают. Женщина, к которой Алабин стремится – Аня, Вика, Алла, Даша, Нина, — должна во сне не узнать его, принять за мужа или любовника, проявить – вслепую – инициативу в сонной ночной ласке, а уж дальше все идет само собой (хотя порой и не без временных осложнений). Описание – скорее регистрирующее, отмечающее детали происходящего да сопутствующие эмоции героя-любовника, обычно небурные, с оттенком сентенциозности. Вот довольно типичный пример: «Мягкая женская рука залезла мне под рубашку, провела по лопаткам и – погладив – устало отпала в сторону. <…> Вика среагировала просто, как реагирует давняя подруга или жена: она раскрылась. Едва я придвинулся… При том, что она продолжала свой вполне спокойный сон. Я… я как бы навис, а не налег. <…> Я получил радость по высшему разряду. В моем возрасте радость особенна и уже без оглядки. (Все равно завтра инсульт или что-нибудь еще.) Так что я все взял»[2].
Ну, живописный ракурс (Ватто, Вермеер, Рубенс) обычно присутствует: серебряный лунный свет, озаряющий место действия и выделяющий черты лица или контур груди возлюбленной, оттеняющий белизну или смуглость нагого тела, подчеркивающий пышность форм или соблазнительность позы: «На четвереньках она была изящна, с прогнутой юной спинкой. Вика сама и почти сразу приняла эту покорную позу.. . <…> Ах, как взыграла в окне луна! Луна взревновала, клянусь! Смуглая (при луне) попка Вики уже сама по себе (и отдельно от Вики) ритмично поддавалась. Она уже и подыгрывала…».
Это, согласимся, очень далеко от эйфорической взволнованности, которая овладевает, скажем, набоковским Гумбертом в моменты осуществления его закоренелых эротических мечтаний и вырывается потоком цветистой риторики: «Под беглыми кончиками пальцев я ощущал волоски, легонько ерошившиеся вдоль ее голеней. Я терялся в едком, но здоровом зное, который как летнее марево обвивал Доллиньку Гейз. Ах, пусть останется она так, пусть навеки останется… Но вот она потянулась, чтобы швырнуть сердцевину истребленного яблока в камин, причем ее молодая тяжесть, ее бесстыдные невинные бедра и круглый задок, слегка переместились по отношению к моему напряженному, полному муки, работающему под шумок лону, и внезапно мои чувства подверглись таинственной перемене. Я перешел в некую плоскость бытия, где ничто не имело значения, кроме настоя счастья, вскипающего внутри моего тела»[3].
Говоря об «Испуге», никто, кстати, не вспомнил «Людей лунного света» Розанова. А ведь текст Маканина – несомненная отсылка к русскому эротическому дискурсу Серебряного века[4]. Не эстетическая стилизация, а напоминание, усмешливая реминисценция. Мол, помните, какие бури вскипали сто и больше лет назад вокруг «Крейцеровой сонаты», вокруг Сологуба и Арцыбашева, Леонида Андреева и «Ямы» Куприна? Век минул, сколько революций, в том числе сексуальных, отгремело, произошла переоценка всех ценностей – посмотрим, какова будет реакция на мое сочинение. Маканин оказался прав в своем провокативном предположении: в откликах на «Испуг» часто присутствовали ханжеское изумление и натянутые гримасы морального отвращения: вслух, на людях, тиражом 10000 экземпляров – фи, да и зачем?!
Откровенность и простота («библейское похабство»), с которыми герой Маканина повествует о своих сексуальных потребностях, инспирациях и предпочтениях, отчасти выходят за пределы классически понимаемой эротики с ее намеками, полуумолчаниями, с ее метафорикой и вуайеризмом. Но подход Маканина, вполне отрефлексированный и взвешенный, далек и от обсценной эстетики Виктора Ерофеева, Владимира Сорокина или Игоря Яркевича, и от сгущенной «кромешности» сочинений, продолжающих традицию Баркова. Предел посягательств – называние вещей своими именами, нестеснительное, но и без юношеского упоения нарушением словесных табу, без смакования непристойностей. Этим определяется и способ выражения: «Озленный, я высказался напрямую: «Парни. Мужики. Вам по тридцать – сорок лет. Ну что тут умного или сложного?.. Вы уже должны это понимать. Я хочу оттрахать медсестру…». Здесь есть точное соответствие лексики психологическому настрою и опыту пожилого человека, для которого сексуальная активность составляет важную часть его жизненного модуса, хоть и не сакральную, не сверхценную.
А рядом с манифестациями неутолимого желания на грани похоти – обычные для Маканина острые штриховые зарисовки персонажей, едкие комментарии, моменты психологических проникновений, побуждающих к сопереживанию, как в главе «В утробе», где повествование в самом конце внезапно переводится в план глубоко личного воспоминания-признания: «В полутьме я вижу пятно его лица. Вижу и не вижу. (И думаю о покойной моей матери. Почему я думаю о ней, когда смотрю на него спящего? Я помню мамину гримаску досады. Гримаску ее хорошо, отлично помню… А вот улыбку ее время стерло)».