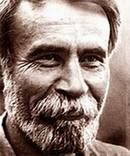Елена Новоселова. Российская газета, октябрь 2011
Владимир Маканин написал новую книгу «Две сестры и Кандинский». Как обычно, полную загадок, скрытых смыслов, странностей. Как обычно, давно ожидаемую. Как обычно, развивающую главную тему писателя — столкновение личности с «роем».
На этот раз в роли распыленного временем «общественного роя» — стукачи или, интеллигентно выражаясь, информаторы. Критики поторопились вынести вердикт — роман о роли стукачества в современной истории России. Но для Маканина это слишком простая трактовка. Он писал о людях, у каждого из которых своя стойкая правда, — и все они, без исключения, заслуживают хотя бы понимания, если не прощения.
Российская газета: «Две сестры и Кандинский» — продолжение романа «Андеграунд, или Герой нашего времени»? Опять бурные 90-е, «люди из подполья»?
Владимир Маканин: Действительно, среди героев «Андеграунда» тоже был стукач. Клинический, острый случай активного доносительства. Небесталанный критик вел там свою вторую жизнь, профессионально стукаческую и по-своему яркую. Этот примитивно злобствующий персонаж распался в новой книге на два самостоятельных образа, — оба более повседневные, более житейски понятные.
РГ: Доносчик, по-вашему, обязательный персонаж любой человеческой комедии?
Маканин: То, над чем мы смеемся, что презираем, о чем рассказываем анекдоты, имеет место быть в каждом государстве. Информаторы и щупальцевая информативность — это альфа и омега всякой власти. Как я уже сказал, в новом романе два типа — стукач интеллигентный и стукач простой. Интеллигентный в перестроечном ажиотаже бежит в ГБ примирять тех и этих — спешит объяснить гебистам («они ведь тоже люди!»), что в картинах авангардных художников нет никакой крамолы и опасности для власти. Реально — это донос. Практически — это самодонос. Покаянное самодоносительство подмешано ко всякому сложному человеческому случаю. Зато у стукача, который попроще, и мотивы просты. «Работа такая… У осведомителя-профи нелегкий хлеб», — отвечает он другим да и самому себе на вопрос, почему «сдавал» людей. Он вовсе не нагл. Он прост. И ему все труднее дается объяснить, что он лишь честно выполнял свои обязанности. И хмуро рассказывает он об эшелонах — о тех, кого ссылали, о тех, у кого во время их пересылки погибали от болезней дети… Я не старался так уж разделять тех, кто «стучал» ради идеи, да еще делал это с нашим честным выворотом, от тех, кто «трудился» за деньги. Один тип пополняется другим. Суть не в их разности. Суть в их схожести. И когда ближе к концу романа оба доносителя понимающе чокаются шампанским, можно задергивать занавес.
РГ: Если все пронизано «стуком», то наверняка и вам предлагали поработать?
Маканин: Когда меня первый раз выпускали за границу в Германию, ко мне просто подошел невзрачный наш человек и спросил: «Вы после расскажете, как там было?» Так вот просто поинтересовался, не предлагая пока ничего. Но, возможно, оставили в покое, потому что я был приглашен вместе с Юрием Трифоновым, а он тогда был в лучшей своей поре.
РГ: Не считаете ли вы, что стучать — наша национальная потребность?
Маканин: Нет, разумеется. Вовсе нет… Стукач — мировой архетип. Мировой типаж, со времен античности известный как истории, так и литературе. В человеке нет прямой ответственности за весь свой народ, но есть прямая ответственность за самого себя. Власть как власть. Она всегда будет предлагать сотрудничество, иногда за деньги, однако принять его или не принимать — твой выбор.
В романе речь идет о том, как человек себя оправдывает, чтобы успокоить, — и как успокаивает, чтобы оправдать. Это куда интереснее, чем разоблачение стукачества. Речь, конечно же, идет о человеческой природе. К примеру, 20-30 лет назад в Центральной библиотеке, если появлялся там мужчина странноватый, то друг другу говорили: «С ним осторожнее… Стукач». А сейчас на том же намоленном месте при виде чуть странного и безукоризненно одетого мужчины с улыбкой шепчут: «Ты с ним поосторожнее… Голубой!»
РГ: В вашей новой книге есть удивительный, почти библейский ход: те, кому сломал жизнь стукач, с радостью и любовью принимают его раскаявшегося. Почему прощали Батю?
Маканин: Потому что много лет прошло… За эти годы с каждым случилась сотня мелких и крупных бед. Такова самотечность жизни — у кого-то проблемы с жильем, а следом недоглядели и умер ребенок, а рядом кто-то безнадежно болен, а кто-то за решеткой, от кого-то ушла жена или сам ушел, сбежал по невеселому третьему разу. Жизнь у нас такая, что количество бед год за годом выравнивает людей. Ставит вровень прощающего и прощенного. Потому и роман писался не о стукачах. Стукачи — только антураж рассказа о том, как люди глядятся в зеркало.
РГ: Чехов тоже любил своих героев подвести к зеркалу. С какой целью вы так прозрачно используете чеховские аллюзии?
Маканин: Чехов — для того, чтобы не делать слишком долгого разбега перед прыжком. Чтобы скорее в контекст. Я не сомневался, что чеховская ситуация легко и сразу прочитается нашим человеком. Так Гамлет призывает актеров сыграть историю убийства некоего Короля, и вот соперник вливает этому Королю в ухо яд… чтобы… Чтобы автор, некто Шекспир, нацеленным прыжком мог подготовить зрителя к высоте своей трагедии. Таких примеров в литературе множество. Внутри большой драмы всегда горит костерок драмы меньшей, похожей на отсвет. Две сестры, их ожидания, «В Питер, в Питер!», как оказалось, соседствуют с доносами и самодоносами. И подсвечивают их.
РГ: Чей вы последователь: Чехова, Достоевского?
Маканин: Наш писатель вольно или невольно воспринимает русскую литературу как единый Кавказский хребет. Есть гора-Достоевский, есть гора-Чехов… Горы там меж собой перекрикиваются, но эхо отдельной горы нам тоже может стать завораживающе интересным. Литература XIX века столь велика и мощна, что чувство ученичества возникает само собой, как бы ты ни заносился.
РГ: И «Андеграунд», и новый роман «Две сестры и Кандинский» посвящены 90-м. А в нашем времени кто-то из героев подполья вам интересен?
Маканин: Андеграунд сыграл свою важную историческую роль. Я не был человеком андеграунда, но я дружил с его людьми, — талантливыми, умными, обладавшими незаурядной силой и смелостью духа. Время не лучшим образом распорядилось их подпольной жизнью. Кто-то спился, кто-то погиб, кто-то просто исчез. Конечно, как и положено победителям, некоторые из них стали современной легальной оппозицией или даже составили нынешний истеблишмент. А когда эти люди случаем стали попадать во власть, обнаружилась их драма: как хороши, ярки, трагичны они были в подполье и какими бледными картофельными ростками вышли они на свет божий. Но их ли это вина?.. Я с болью думал о них, но я не писал о них. Я писал книгу как реквием задыхающемуся андеграунду, который остался в прошлом.
РГ: «Бледные картофельные ростки» — это нынешняя интеллигенция?
Маканин: Не так буквально!.. Интеллигенция сейчас, я бы сказал, знает свое место. Она еще существует, она греет теплыми остатками идей, но все-таки знает свое место. Сейчас ее вытесняет, вытаптывает средний класс, который формируется очень быстро. Интеллигенция не ценится, а скорее терпится. С ней считаются, но уже нет у нее того пафоса, того духа, того высокого полета, на котором держатся принципы.
РГ: Вы упомянули о высоких принципах. Когда ушел Солженицын и, по мнению многих, оставил всем пишущим тяжелейший груз быть совестью нации, — вы воспринимаете такую преемственность всерьез? Эта ноша сковывает творческую свободу?
Маканин: На мой взгляд, на один квадратный километр сейчас и без того слишком много пророчествующих. Посчитав, что он востребован в качестве «совести нации», видя себя кем-то слишком значительным, писатель прежде всего навредит самому себе. И раньше, чем от осознания неминуемых промахов и промашек у него поедет крыша, он сам увидит, что он смешон. И даже если своим талантом он и впрямь прорежет «тьму современности», мании величия ему все равно не избежать. Это опасный край. У меня есть такая повесть «Где сходилось небо с холмами». Вот там человек жил с этой проблемой. Не называл, конечно, себя совестью нации, но размышлял, в какой степени он отвечает за всех. И в какой степени он высасывает из окружающих их совесть. Ведь люди расслабляются и с радостью сбрасывают с себя любой груз, в том числе и груз собственной совести.
РГ: Роман «Асан» о кавказской войне был признан лучшим в 2008 году. История жизни и смерти героя-антигероя полковника Буданова — чем не сюжет для книги?
Маканин: Конечно, Буданов задел, это было неизбежно. Но это не мое. Тут не вопрос писательской смелости, тут политика. У СМИ холодная сила дьявола. Как бы тонко и аккуратно ты свое ни написал, тебя оболгут, поставят в ряд и, якобы желая похвалить и поддержать, еще больше тебя обесцветят. И какое множество слов! Ты уже не станешь ни объяснять, ни утверждать, — ты станешь в конце концов только божиться и клясться, оправдываться, объясняться, — пытаясь перекричать словом чужое слово. И превратишься в забаву, в мяч, который пинают. Не только себя — слова жалко.
РГ: Как вам кажется, кого из современных писателей вспомнят, когда будут забыты «информационные поводы» их романов, когда уже никто не вспомнит, на кого из модных политиков, журналистов или светских львов намекает автор?
Маканин: В XIX веке писатель Толстой превосходил писателя Достоевского не просто на голову, а на несколько голов. Это было повсеместное, мировое мнение. Спрашивая, как жить, Толстому писали письма даже из Индии какие-то малограмотные люди. Весь мир ценил… Куда дальше!.. Достоевский тоже был и переводим, и достаточно известен как в России, так и за рубежом, но не так славен. Но вот из XIX люди перешли в век XX, который оказался гораздо более жестким, более сложным психологически, более зверским (от слова «зверь») и значит — более сострадательным и мучительным. И вот Достоевский стал востребован, стал тоже в славе. Чего же еще!.. Каково будет время, такова и потребность. От церковного — «требник».
РГ: Тогда скажите, почему на Западе вы сейчас так востребованы?
Маканин: Думаю, это преувеличение. У меня с переводами, как и у других, найдутся свои лакуны — где-то густо, где-то пусто.
Да и сам успех переводческого прочтения кроется, возможно, в одном из случайных, но стойких свойств моей прозы. Я говорю о некотором смещении реалий (фактов и обстоятельств), когда я это делаю ради укрупнения в тексте того или иного человеческого образа. Смещение реалий — это очень осторожная условность, и в ней много плюсов. Конечно, есть и минусы. Конечно, в художнике проявляется и нечто барское, небрежность к деталям. Так что моя проза — она уже такая.
Что, скажем, интересного, если политика выбросили из мелкого реально существующего подкомитета? — Ничего. А попробуйте его пересадить в некую Думу и дать ему пинка там — дело совсем другое!.. Образ политика сразу становится рельефнее, а его чувства значительнее. А это не пустяки. Размер имеет значение. Вспомним день и ночь терзающихся шекспировских королей. Рельефность дает образу тени.