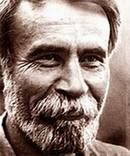Итак.
С душой, чернющей, как ночь, Петрович, все рукописи свои вместе с отрицательными отзывами из редакций сам давным-давно уничтоживший: «Я снес их все разом женщине, торговавшей у метро (давно просила бумагу, заворачивала пирожки). Мешок», — переставший писать свои повести, Петрович вдруг озаботился их репутацией в далеком и светлом будущем: «Вспомнил (наконец-то) и о текстах, о затерянных, затраханных моих повестях и рассказах – к ним тоже прилипнет. Им-то за что?» Озаботился и убил гэбэшника, незаметно записывавшего за ним, пьяным, на магнитофон сплетни о деятелях в прошлом оппозиционного искусства. Причем когда это происходит! Когда вызванного к Лесе Дмитриевне «врача больше беспокоила кровь на улицах». Когда КГБ был Ельциным так разгромлен, что тому было не до сбора сведений о богемной интеллигенции. (А КГБ и до того было уже не до того, если учесть, что Маканин нарочно ахронологичен.) Даже если принять за общее правило, что карательные органы при переворотах сохраняют преемственность работы – все равно. Легко ли глотать такое читателю? И усваивать экзистенциализм… — Если легко – на то я. Может, буду услышан кем-то.
Немзер прав: «поэтические связи берут верх над логическими». Но затем и нужен критик. Пусть Маканин победит своего читателя. Но на этом жизнь не кончается. Читатель может не только Маканина прочесть.
Конечно Маканин молодец. Врет – зачитаться можно. За художественность я его и хвалю.
Как нужно относиться к такому на 410-й странице:
«… Я окреп, одолевал любые расстояния. К тому же осень ровная, давление не скачет (молодец!).
Когда пришел навестить Веню, меня принял Холин-Волин. Главный. Я уже знал о переменах (Иван Емельянович парил теперь совсем высоко; орел). Холин-Волин был дружелюбен, как и положено ему быть с родственником одного из постоянных больных».
Как к этому относиться? Если на 325-й странице Холин-Волин издевался над этим постоянным больным в присутствии «я»-повествователя… А на странице 333-й Холин-Волин провалился при попытке под гипнозом выведать, кого Петрович убил. И на 335-й за то перевел его в отделение к убийцам, где его санитары забили до полусмерти, в результате чего он от Холина-Волина и от Ивана Емельяновича ускользнул на время, а потом они махнули на него рукой.
Как относиться?
Не с негодованием и не с умиротворением, а нейтрально: царствует-то Зло; все нормально. В том и состоит подлинное бытие, что чтит сущностную устремленность жизни к смерти.
«Мы должны действительно онтологически принципиально предоставить первичное раскрытие мира «простому настроению». ["Простое настроение" не то, что "чистое созерцание".] Чистое созерцание, проникай оно и в интимнейшие фибры бытия чего-то наличного, никогда не смогло бы открыть ничего подобного угрожающему» (Хайдеггер. Бытие и время). А «простое настроение» может. И открытие это – угрожающее. И всё нормально.
Вот что дает осмысление того, что получается от столкновения противоречивых элементов «Андеграунда». Это художественно, но такой идеал ужасен.
А теперь вернемся к заброшенному тезису: «что же он [Петрович] может внятного сообщить о своем символе веры».
Почти ничего.
Не потому ли нет в тексте романа ни строчки, ни словосочетания из его повестей. (Стихи Веронички, например, есть. Так они ее характеризуют совсем не экзистенциалисткой.) А не подозрительно ли, что единственная развернутая реалия, касающаяся творца, и обсужденная творцами такая:
«…Чубик еще и заспорил с художниками, с этими всезнайками. Как раз о Нине, немка-то была подругой Кандинского, великой подругой, а Нина все-таки женой – оказался прав! (Полезли в потрепанный том; выяснили; и шумно, уже колхозом, выпили за истину.)»
Ве-ли-кая мысль!
Дурной биографизм дает, дает-таки возможность пустышкам создавать впечатление, что они чего-то стоят около искусства. А еще многие из деятелей того искусства только тем и знатны, что их где-то кто-то притеснял.
Впрочем, есть у Маканина целая глава под названием «Квадрат Малевича». И там даже толком сказано кое-что о «Квадрате» Малевича:
«Увы, нам нужна перспектива; приманка [людям далеко не подлинного бытия, прозападным], награда, цель, свет в конце туннеля, и по возможности поскорей. В этом, и ни в чем ином, наша жизнь. В этом наша невосточная суть: нам подавай будущее!.. Потому-то черный квадрат Малевича – гениален [вот Малевича-то – озарило подлинное бытие]; это стон; это как раз для нас и наших торопливых душ; это удар и грандиозное торможение».
В смысле – Малевич обращался к непосвященным. Потому – черный. Не то, что у китайцев: белый лист бумаги это самое страшное – дракон и… приятие его… без страха.
Писателю эквивалент – неписание. До чего и дозрел Петрович, пока не «написал» вдруг и вне романа то, что мы прочли.
«…для добросовестной мысли должно оставаться открытым вопросом, «есть» ли бытие и как оно есть» (Хайдеггер. Письмо о гуманизме).
Гора родила мышь.
Можно лишь поражаться смелости Маканина, дерзнувшего написать целый роман о почти ничем.
Остается коснуться Сартра. Его ведь тоже упомянул Маканин в своем романе:
«Человек выбирает или не выбирает (по Сартру) – это верно. Но про свой выбор (Сартру вопреки) человек, увы, понимает после«.
Все верно. У Хайдеггера ж экстремизм помягче сартровского. А Маканин с немцем.
Потому, наверно, столь жалкий конец романа. Изданный в Германии экземпляр альбома с полутора рисунками Вени, брата Петровича, художника, намерено залеченного в брежневской психушке, потерян. Веня, отпущенный из психушки на сутки, в нее возвращается в несчастнейшем состоянии. Обделался и не может на ногах стоять. А думает, что он – что-то. – Шиш он что-то. Как и вообще человек:
«И тихо санитарам, им обоим как бы напоследок: «Не толкайтесь, я сам!» И даже распрямился, гордый, на один миг – российский гений, забит, уничтожен, затолкан, в говне, а вот ведь не толкайте, дойду, я сам!«
Миниминисупермен. Так что нечем хвастать. Лучше тушевать взлеты.
Справедливости ради нужно признать, что мое понимание Хайдеггера — расхожее. И оно нашло резкую отповедь самого Хайдеггера:
«Поскольку что-то говорится [у Хайдеггера] против «гуманизма», люди пугаются апологии антигуманного и прославления варварской жестокости. Ведь что может быть «логичнее» вывода, что тому, кто отрицает гуманизм, остается лишь утверждать бесчеловечность?
Поскольку что-то говорится против «логики», люди уверены, что выдвинуто требование отречься от строгости мысли, вместо которой воцаряется произвол инстинктов и страстей, а тем самым истиной провозглашается «иррационализм». Ведь что может быть «логичнее» вывода, что тот, кто говорит против логики, защищает алогизм?
Поскольку что-то говорится против «ценностей», люди приходят в ужас от этой философии, дерзающей пренебречь высшими благами человечества. Ведь что может быть «логичнее» вывода, что мыслитель, отрицающий ценности, должен с необходимостью объявить все никчемным?
Поскольку говорится, что бытие человека есть «бытие-в-мире», люди заключают, что человек тут принижается до чисто посюстороннего существа, вследствие чего философия тонет в позитивизме. Ведь что может быть «логичнее» вывода, что тот, кто утверждает включенность человеческого бытия в мир, признает только посюсторонность, отрицает потустороннее и отрекается от всякой «трансценденции»?
Поскольку цитируются слова Ницше о «смерти Бога», люди объявляют подобный поступок атеизмом. Ведь что может быть «логичнее» чем вывод, что осмысливший «смерть Бога» — безбожник?
Поскольку во всем перечисленном сплошь говорится против того, что человечество признает высоким и священным, эта философия учит безответственному и разрушительному «нигилизму». Ведь что может быть «логичнее» чем вывод, что человек, так огульно отрицающий истинно сущее, становится на сторону не-сущего и тем самым проповедует чистое Ничто в качестве смысла действительности?
Что тут происходит? Люди слышат разговоры о «гуманизме», о «логике», о «ценностях», о «мире», о «Боге». Люди слышат разговоры о какой-то противоположности этому. Люди знают и воспринимают все названное как позитив. А все то, что неким — при восприятии понаслышке не очень точно осмысленным — образом выступает против всего названного, люди сразу принимают за его отрицание, отрицание же — за «негативизм» в смысле деструктивности» (Хайдеггер. Письмо о гуманизме).
Все так. Но если контраргументом профанам и недоумкам выступает такое:
«…чтобы истина бытия нашла себя в слове и чтобы мысль дала ей это слово. Возможно, нашей речи потребуется тогда не столько захлебывающееся многословие, сколько простое молчание» (Там же).
То, извиняюсь…
И пусть я даже не смею так возражать, но, может, я раскачаю кого на нечто иное. И обязательно – продуктивное.
Оригинал: Топос