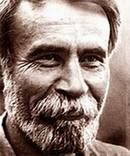30 июня 2006 г.
Демонист Владимир Маканин
(Продолжение)
мысль «Бытия и времени» противостоит гуманизму
Хайдеггер
Признаюсь, первую статью о Маканине я написал, дочитав его роман «Андеграунд» лишь до половины. И, показалось, что я попал в тупик, когда сюжет во второй половине повернул, и главный герой, бомж-писатель Петрович, был изгнан из дома, где он долго-предолго как-то прожил. С женщинами стал сходиться не из жалости к ним, а наоборот, спасаясь их жалостью к себе. Из разряда устроившихся в жизни бомжей перешел в неустроенного. Плюс обычная совесть его заела (он еще одного человека убил, во имя… какого-то лучшего будущего). – В общем — крах-де моего вывода об экзистенциализме Маканина. Да и метода судить о вкусе моря по капле.
Но я часто попадаю в такие тупики… Которые при ином взгляде оказываются свободной дорогой.
А пока смущало кое-что.
Во-первых, психологическая немотивированность общей перемены отношения к Петровичу в общаге. Приватизация квартир, мол, изменила людей. Из безалаберных они стали центропупами. А возросшая нервозность из-за ухудшения общей обстановки обернулась нетерпимостью всех ко всем и всех, имеющих презренные кв. метры, к бомжу. Исчезли уезжающие надолго, пропала работа сторожить их квартиры. Да и «сторожение квартир как вид паразитизма; их точка зрения», общажников, такая стала… И вот вдруг он услышал: «Мы трудяги. Ты тут лишний, братец…» Окрысилась даже Зинаида, сдававшая ему «в те дни» свою постель – с собою в ней — за плату (для чего подыскала ему случайный заработок): захотела в загс, «но тут же и спохватилась, испугалась протянутой своей же соломинки, мол, шутка».
Правда, и раньше умалчивалось в романе, как Петрович мог тут долгонько жить до того, как стал сторожить квартиры временно уезжающих.
Во-вторых, прямо физиологические, что ли, накладки пошли.
Ну посудите сами. Как смог, скажем, бить костылем санитаров – и бить крепко – пациент (Петрович) после многодневных уколов нейролептиками, вот так ослабевший: «Я и кровать стали одно», «От слабости у меня пропал голос», — когда ДО этого курса он не смог руку поднять, когда хотел ударить врача и за дело.
Авторский произвол…
Маканин, правда, не из реалистов. Это им необходима не правдоподобность, а правда жизни (в том числе и физиологическая и психологическая). Они ж открывают в жизни типичность.
Маканину же достаточно, чтоб неправда просто не бросалась в глаза. Этого он достиг, с чем и можно его поздравить.
Остается только понять, зачем и по большому ли счету она ему понадобилась.
По большому.
Ну что это за бомж, если у него есть определенный дом жительства? Ну что это за человек, если, убив человека, он так легко справляется с совестью? Ну что это за мещанин во дворянстве Зла? Что это за экзистенциалист (хоть и хайдеггеровского типа) так неконтрастно переходящий от неподлинного бытия к подлинному и обратно?..
Похоже, что Маканин решил своего минисупермена укрупнить. Правдами или неправдами наслав на него невзгоды помасштабнее. (Тогда «Герой» в названии романа приобретает несколько другой оттенок: не потуги на типичность, а героизации. Лермонтовский же эпиграф работает тогда по принципу антитезы самому себе: Петрович исключителен, а не типичен.)
И вправду, ну кто б это смог вырваться из ТАКОЙ психушки? – Никто. – А Петрович смог. Ну, правда, глупить Маканин не собирался. Опять амортизирует: совпадение, мол, случайностей. Все-таки герой действительно не обычный убийца, а писатель, инженер человеческих душ, своей, по крайней мере. Медицинские инженеры человеческих душ, в общем-то, имеют дело с простыми убийцами. Вот обычные преступники под действием нейролептиков и признаются в убийстве и все-все с подробностями рассказывают. (Есть ли на самом деле такие препараты – не важно. Достаточно, что в мире, сочиненном Маканиным, они есть. Узконаправленного действия – покаянные, так сказать. Бессильные противостоять тайному тренингу пациента на совсем неожиданную способность – повышение эмоциональной чувствительности к боли, своей и чужой.) Вот Петровичу и удается взыграть не только духом, но и телом и побить санитаров за жестокое обращение с Сударьковым. Далее просто: неадекватные побои мстительных санитаров, перевод в хирургическое отделение с прекращением колоть нейролептики, долгое лечение ран (всё естественно), забвение о нем или наплевательство переведших (не естественно, но… мало ли безалаберности у нас) и выписка.
Чтоб оказалось возможным такое сильное испытание (чтоб Петровичу вообще попасть в психушку, чтоб случился психический срыв) созданы еще две случайности (налет авторской сделанности чувствуется и тут). Во-первых, Петрович смог устроиться жить в бомжатник. (После психушки, победителем, он в него попасть не смог, а теперь, видите ли, смог.) Во-вторых, там живущая (на почему-то прочной основе и в отдельной квартире) жалкая умишком Ната оказалась девственницей в тридцать лет. Уже знакомая в Петровиче жалость к несчастным женщинам не позволила сломать ей жизнь. Сойдись он с нею, он бы добился осуществления уже опробованной с убийством кавказца мысли «о неучастии чувством в сюжете» (сюжетом у этого писателя называлась неотвязная память об убитом). Вполне тогда – с кавказцем — удалось «вырваться из сюжета» из-за подвернувшейся Сестряевой (тогда не почувствовалось, что Сестряева – как рояль в кустах). С Натой – почувствовалось. Но слабо.
Как и всегда. Может, в этом и искусство Маканина: литературщина, но малозаметная… Как со скобками (см. первую статью).
И тут я опять (тоже см. первую статью) не соглашусь с Немзером: «И здесь, поймав Петровича на вранье, без которого не бывает литературы, мы должны задаться вопросом, а правда ли все, что наш бомж-гений … о себе рассказывает? Зададимся вопросом — и тут же его снимем. Все правда. Не потому, что реальность стала в современной литературе иллюзией, а потому что помыслы, мечты, фантазии всегда упираются в реальность».
Минисупермен – это еще туда-сюда, терпимо. Но исключительность Петровича – это уже слишком. Сравнительно с тем, что же он может внятного сообщить о своем символе веры. Не поверят же люди, что такие бывают и что стоит таким быть.
Потому Маканин недолго продержал его в исключительности (четверть объема романа). И – вернул в мини. (И в макси и в мини – мерцая и амортизируя, чтоб не засекли на вранье, на литературщине).
Где-то так же поступил и сам Хайдеггер (я о внятности насчет символа веры):
«…при опубликовании «Бытия и времени» третий раздел первой части, «Время и бытие», был изъят из книги (см. «Бытие и время», с. 39). Здесь должен был произойти поворот всего целого. Проблематичный раздел был изъят, потому что мысль отказала при попытке достаточным образом высказать этот поворот и не смогла идти дальше» (Хайдеггер. Письмо о гуманизме).
«Чтобы достичь измерения бытийной истины и осмыслить его, нам, нынешним, предстоит еще прежде всего выяснить, наконец, как бытие касается человека и как оно заявляет на него свои права» (Там же).
Очень грубо говоря, пойди туда, не знай куда…
Чтоб его новизну философскую уследить, нужно несколько поясняющих отступлений.
Первое.
Ознакомьтесь с некоторыми законами внутренней речи: «непонятность», «условные значения слов», «выражение глубоких рассуждений одним лишь названием», «многие слова сливаются в слово-»спору» новой мысли», «асинтаксическое слипание слов», «синтаксические разделы сходят на нет», «предположение слова вместо слова», «речь из запинаний, возвращений» (В. С. Библер. http://www.ruthenia.ru/lotman/txt/bibler95.html).
Второе.
«Мысль не совпадает непосредственно с речевым выражением. Мысль не состоит из отдельных слов — так, как речь. Если я хочу передать мысль, что я видел сегодня, как мальчик в синей блузе и босиком бежал по улице, я не вижу отдельно мальчика, отдельно блузы, отдельно то, что она синяя… Мысль всегда представляет собой нечто целое, значительно большее по своему протяжению и объему, чем отдельное слово… Мысль можно было бы сравнить с нависшим облаком, которое проливается дождем слов. Поэтому процесс перехода от мысли к речи представляет собой чрезвычайно сложный процесс… Так как прямой переход от мысли к слову невозможен… возникают жалобы на несовершенство слова и ламентации по поводу невыразимости мысли… Как сердцу высказать себя, Другому как понять тебя…» (Выготский. Психология развития человека. М., 2004. С. 1012).
Третье.
Между мыслью и речью находится внутренняя речь. Так мы устроены. А художники слова, стихийно пользуясь законами внутренней речи, как-то умеют в своей внешней все же речи лучше передать случившуюся мысль, чем кто бы то ни было. Хоть иному их текст темен и непонятен.
Четвертое.
Мысль порождает все будущие слова, которые худо-бедно мысль выразят. Этому как-то аналогичен так называемый антропный принцип. – В момент Большого Взрыва становятся с каким-то определенным значением так называемые фундаментальные постоянные (скажем, мерность пространства; она стала равной трем при Большом Взрыве). И их, фундаментальных постоянных, числовое соотношение в нашей Вселенной случилось такое, которое предопределило появление через много времени человека, способного мыслить. (Человек и даже звезды и атомы не появились бы, случись та же размерность пространства равной, например, двум.) Человеческая мысль оказалась как бы запрограммированной на возникновение при возникновении нашей Вселенной. Как бы некая мысль предопределила всё. В том числе и Большой Разрыв, соответственно наиновейшим фактам, — конец всего, даже атомов. Умирает не только человек, но всё. И человечество – гораздо раньше Большого Разрыва. Не зря нет разумных сигналов из космоса. Разумные существа себя, не исключено, уничтожают.
Пятое.
Опасность самоуничтожения человечества засветила еще при переходе от феодализма к капитализму. Еще больше – при становлении империализма, социализма, глобализма.
В конце ХХ столетия некоторые философы (Библер, например) пришли к мысли (я, извиняюсь, очень ее огрублю), что грядет гуманитарная революция, которая переключит бесконечную человеческую ненасытность с рельсов материального потребления на духовное. И тем человечество спасется. А про внеземные цивилизации забудет.
Но было и другое направление. Просто, мол, нужно не негативно отнестись к гибели, а позитивно, как тибетцы.
И вот Хайдеггер говорит, что мысль есть сама возможность, мысль есть мышление бытия. Что история бытия никогда не в прошлом, она всегда впереди. Она несет на себе и определяет собой всякую человеческую участь и ситуацию. Что осуществимо, собственно, только то, что уже есть. Т.е. ничего не надо делать, надо только созерцать и называть созерцаемое, а осуществлять значит: развернуть нечто до полноты его существа, вывести к этой полноте, producere — про-из-вести. Что философам и поэтам дается мыслеслово, адекватное полноте бытия. Вот это и есть настоящая деятельность. И в этом эстетическая и нравственная ответственность языка. А не то, что мы-обычные понимает под эстетикой и нравственностью.
И вот Гёльдерлин, мол, еще два века назад сумел выразить такую необычность.
Существо родины, Германии, не в эгоизме своего народа, а в бытийно-историческом смысле, в принадлежности к судьбе Запада, чувствующего свою бездомность, бездомность новоевропейского человека. Но Запад тут мыслится не регионально, не в отличии от Востока, не просто как Европа, а в свете мировой истории, как близость к истоку. Германия просто лучше других на Западе способна понять Восток. А тот ближе к истоку. О «германском» говорится не миру, чтобы он припал к целительным германским началам, но говорится немцам, чтобы они через судьбоносную принадлежность к народам Запада стали с ними участниками истории мира, ведомого Востоком. Потому что он родина этой исторической обители — близости к Бытию. Бездомность, ожидающая осмысления, коренится в покинутости сущего бытием. Она признак забвения бытия. Бездомность — чувство, что техногенная цивилизация приведет человечество к гибели как к чему-то плохому. А домность – как к тому же, но оцениваемому хорошо. Только страна потенциальных сверхчеловеков, Германия, может привести Запад к приятию смерти как радости.
Бытие как событие, посылающее истину, остается потаенным. Но судьба мира дает о себе знать в поэзии, хотя еще и не открывает себя в качестве истории бытия. Поэтому мысль слушавшего судьбу мира Гёльдерлина, нашедшая слово в стихотворении, сущностно ближе к истоку и тем самым ближе к будущему, чем всепонимание «гражданина мира» Гёте.
(Многие словоблоки в описании изъяснений Хайдеггера от своего имени и от имени Гёльдерлина я дал раскавыченными цитатами, разбавленными моими словами. Прямыми цитатами – невозможно: очень уж необычно у Хайдеггера словоупотребление.)
Согласитесь, что трудно рассчитывать, что такое будет благожелательно принято людьми. И нужно очень смягчать, амортизировать свои проповеди, не давать их «в лоб». И Маканин как художник-экзистенциалист тут годится как никто. Неправда / правда у него мерцают, зыбятся, как малые и большие волны – и… мы получаем эстетическое удовольствие. Совсем в соответствии с психологической теорией художественности Выготского. (Она резко отличается от мыслей Выготского же о внутренней речи и близости к ней поэзии.) И… яд экзистенциализма проникает в наши души.
Я же как критик имею полное право с таким ядом-идеалом бороться.
Поэтому я позволю себе обратить внимание читателя на «вранье», которое, будучи включено в противоречивую художественную структуру, проглатывается вместе с правдой и, в качестве немзеровского «Все правда» усваивается – не вполне осознаваемым катарсисом – как идеология экзистенциализма.