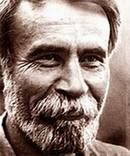2006 год
Хайдеггер считает высшим началом не то, из которого исходит свет, а то, которое вечно сокрыто от света, оно – своего рода черное солнце, благодаря которому становится видимым самый свет.
Расхожее мнение
.
Было б неплохо понять, зачем Маканин в романе «Андеграунд, или Герой нашего времени» так много пользуется скобками.
Вот – первое применение:
«Показываю рукой направление (показываю ему довольно решительно) – мол, на кухню. Идем на кухню, если хочешь посидеть, поболтать о чем-то. (Уже знаю, о чем. О его жене. Бедный.)»
Какую страницу ни открой – по несколько пар скобок.
Первое впечатление такое, что это просто выпендреж, да и еще ничего не значащий. Ведь можно было написать обычно: «Показываю рукой направление, показываю ему довольно решительно, мол, на кухню. Идем на кухню, если хочешь посидеть, поболтать о чем-то. Уже знаю, о чем. О его жене. Бедный».
Но тогда снизится впечатление оригинальности. Иной писатель лучше удавится, чем покажется таким же, как все. А Маканин?
Скобки не такой уж эмоции выражающий знак препинания. Нейтральный. Предназначен, в общем, для создания впечатления обстоятельности. Сложную жизнь, мол, описывает «я»-повествователь. А предложения короткие. Примитивные. Как у Довлатова. Но Довлатов противостоял большим жанрам официальной советской литературы…
Маканин же, судя по содержанию, пишет против всех, против постсоветской литературы тоже.
Он закончил роман в 1997-м, а описывает перестройку, контрреволюцию 91 и 93 годов. И очень отстраненно. Так же, как брежневское время.
«Гаврила Попов, а за ним другие, рангом помельче. Затем еще и еще мельче, а когда калибр уже с трудом поддавался измерению – она. Вероничка… И теперь Вероника занималась чем-то важным и нужным. Человек обязательно занимается чем-то важным, если он наверху. Я тотчас разлюбил ее».
Вероничка – предмет любви «я»-повествователя, когда, при Советах, она, андеграундная поэтесса, пьянчужка и потаскушка, вызывала сострадание у «я»-повествователя своим неумением пить и таскаться. То ли дело «я», умеющий жить под землей.
Или вот:
«Веронику стерегли два секретаря. Один юн, льняные волосы и лицо ангела, я к нему не захотел. Уж очень чист».
Не пустили «я»-повествователя к Веронике…
Или вот:
«Она [Вероника] знает, где ты. Отдыхай. Лежи на дне и гляди, как над тобой (вверху) в голубой воде плывут кучки. Кучки покрупнее – кучки помельче. Вода прозрачна, солнышко светит, дерьмо плывет».
Какая она, постсоветская литература? – А Бог знает. Разная. Может, и нет у нее общего знаменателя. – Тогда нейтральные, более или менее никчемные скобки, может, и хорошо отражают ОСОБОСТЬ. И героя, и автора…
Увы, и автора.
Потому увы, что хоть Маканин и назвал свой роман претенциозно – «…или Герой нашего времени», но что-то не похоже, что он такой же реалист, как и Лермонтов.
Посмотрите на это симптоматическое троеточие в лермонтовском эпиграфе к маканинскому роману:
«Герой… портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии».
Что Маканин опустил?
«..Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но не одного…»
Маканин опустил лермонтовский акцент на ЕЩЕ одном повествователе в своем романе. А там у Лермонтова не только «я»-повествователь (для предисловия к роману, для «Бэлы» и «Максим Максимыча» и для предисловия к «Журналу Печорина»), но и отделенность этого «я»-повествователя от главного героя. В «Бэле» эта отделенность аж через еще одного «я»-повествователя, повествователя истории о Бэле и Печорине, Максим Максимыче.
У Маканина же «я»-повествователь, Петрович, то же, что «я»-повествователь, Печорин, в «Тамани», «Княжне Мери» и «Фаталисте».
Одно это заставляет подозревать, что Маканин совсем не реалист, как Лермонтов, воодушевленный открытием типа, лишнего человека, характерного для николаевской реакции в России.
Воодушевление Лермонтова-открывателя не сделало его простым реалистом. Он как бы понимал, что дело не в Николае Первом. Упования Лермонтова потому были мечтами не исторического оптимиста, а, так сказать, сверхисторического оптимиста, т.е. пессимиста. Потому столько горечи и тьмы в романе. Потому Печорин так негативен.
А у Маканина и нет-то иной точки зрения на мир, чем глазами Петровича.
Да и вряд ли это точка зрения горечи.
Не точка ли это зрения практичного приятия того факта, что Зло правит миром? Как бы взгляд гностика в пику взгляду христианина. Только у Маканина никакой религией не пахнет, ни гностической, ни христианской. Он атеист.
И вот, как в христианском мире (или в безрелигиозном, а ля христианском – в советском), есть свои приспособленцы к миру Добра, отягченного Злом (но Добро сильнее), так у Маканина есть свой приспособленец к миру Зла (Зло сильнее) – вечный агэшник. Не так ли?
Не знаю, как в христианском и в притворяющемся христианским (западном), но в советском мире андеграунд не был мещанством, приспособленчеством. Агэшник был пассивным борцом. Потому такие и вышли из андеграунда при контрреволюции, как Вероничка, и всплыли.
А почему не захотел всплывать Петрович?
«Когда-то в спешке, давай-давай, перебирался на новое место и некстати резким движением водрузил пишущую машинку на единственную фотографию мамы. Излом пришелся прямо на мамины глаза, беречь было уже нечего».
Зло абсолютно. Неизбывно. И с ним нужно привыкнуть жить. То есть не пытаться всплывать. Потому фотографию и Вероники хранить тоже нечего (еще и до того, как разлюбил):
«Да, потерял. Возможно, выбросил».
Нужно уметь жить. – Как? — По-мышиному? Мещанином мира, где царствует абсолютное Зло? Мелким бесом?
Мне кажется, что совсем не случайно упомянут теоретик экзистенциализма (этого вида демонизма) Хайдеггер в первом же предложении романа:
«Сбросил обувь, босой по коврам. Кресло ждет; кто бы из русских читал Хайдеггера, если бы не перевод Бибихина!»
И похвалить Маканина можно за то, что он пошел путем наибольшего сопротивления в целях воспевания так называемого (экзистенциалистами) подлинного бытия. Не быта. Маканин же как раз в агэшный быт погрузил своего главного героя. Но тот СВОБОДЕН. Большинство же – нет.
Вот первый же второстепенный герой, Курнеев, помешавший «я»-повествователю упиться Хайдеггером. Курнеев раб. Своей женатости. Жена, Вера (имя-то какое!) ему изменяет всю жизнь. Он чувствует. И ничего не может поделать со своим рабством. «Бедный», как его определил минисупермен повествователь.
То ли дело Петрович. Он, потискав грудь Веры, раз постучавшейся в охраняемую Петровичем квартиру, когда она удирала от следящего мужа, удовлетворяется, в итоге, не грудью Веры, а утаенной экзистенцией, бытием, намекающим на Ничто:
«Я обнял, я мял груди, не просто привлекло, меня ошарашило. Потому что тишина. Ни звука».
Вдумайтесь, что его ошарашило? Не пикантность момента – трое стоят друг возле друга, и случайный мужчина имеет возможность беспрепятственно тискать женщину, находясь на расстоянии дециметров от ее мужа, стоящего за запертой дверью и не уверенного, что жена заскочила именно сюда.
У Боккаччо в «Декамероне» есть еще более парадоксальные сцены. Например, в одной новелле сношающуюся пару отделяет от перехитренного мужа стенка бочки, куда влез муж, чтоб, — следуя указаниям свесившейся в бочку же жены, — бочку очистить для, мол, продажи неизвестному, которого он застал у себя в доме, неожиданно вернувшись туда. – Так в этой новелле воспевается неподлинное, если верить экзистенциализму, бытие, состоящее из вечного присутствия здесь и сейчас, из моментов вульгарного времени. У Боккаччо же такое время из самоценных моментов, такое бытие оценивается как очень даже подлинное.
Как, похоже, у Веронички:
На лужах <…> пузыри –
Веселые дети дождя.
Коротка и полна мгновеньем
Гениальная их жизнь…
А Петрович согласился с отказом Веры на большее, чем грудь. И не потому, что он знал, что он ей не нравился («интеллигентный, а все же бомж»). Грудь-то она дала. Обоим плевать на нравственность. Петрович отступился. И не потому, что физической силы у почти пятидесятилетнего не было настоять. «Не дала себя подхватить, поднять, вцепилась в ручку двери», значит, понятно обоим (и нам должно быть понятно), что сил-то у него еще хватало. Но… Мир повседневности бы победил, вещность бы торжествовала. А этого Петровичу не надо было. Хоть и по другой причине, чем Вере. И, главное, это Маканину, не отделенному от своего героя, было не надо, раз он ТАК его сочинил.
Нет, конечно, тут нет однозначности. Точки над «i» не поставлены. Но было б странно, если б, — кто? – Маканин выражался однозначно и «в лоб». Более того, экзистенциалистская значимость сцены смазана:
«Мне осталась только грудь, она даже помогла. Что-то под моими пальцами хрустнуло, и Вера, возможно не желая попортить изысканный предмет туалета, спасая вещь, вдруг рывком руки сняла лифчик и спрятала в сумочку».
Видите, вещность, ценность для экзистенциалиста отрицательная, торжествует. Даже слово «вещь» появилось. – Зачем? — Во имя смягчения экзистенциалистского впечатления от подлинного, бытийного «потому что тишина».
Которая сама тоже неоднозначна, ибо «тишина» ж, при ближайшем рассмотрении, бытового происхождения: «Оба молчали». И есть ли оно, хайдеггеровское ВСЛУШИВАНИЕ: «бытие нельзя видеть, ему можно только внимать» (БСЭ)…
Если и есть, то тоже смягчено. Как невыразительностью скобок смягчена ОСОБОСТЬ писательской манеры письма, нагнетающей неоднозначность речи.
Вот Андрей Немзер из всяческой маканинской неоднозначности и сделал вывод о романе, противоположный тому, куда ведет имя Хайдеггер в первом предложении (сделал вывод, не обращая внимания, что первое предложение есть один из опорных моментов анализа текста):
«За хозяйской самодостаточностью героя, кажущегося поначалу победительным и всепознавшим, — самодостаточность автора, имеющего право на большое и окончательное слово. «Сбросил обувь, босой по коврам. Кресло ждет: кто бы из русских читал Хайдеггера, если бы не перевод Бибихина! Но только-то замер, можно сказать, притих душой на очередном здесь и сейчас, как кто-то уже перетаптывается у двери».
То-то и оно, что кто-то обязательно в дверь войдет — и тем самым разрушит иллюзию воспарения над бытием, абсолютной и холодной свободы, вроде бы достигнутой таинственным созерцателем. И кресло окажется чужим, и ковры, а головоломный немец и прежде своим не был — свои у двери перетаптываются, свои — те, кто не читает Хайдеггера даже при наличии перевода Бибихина» (http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1998/10/nemzer.html).
Ничего себе свой – Курнеев!
Да и все остальные непрошенные гости сторожа чужих квартир.
«Они проговаривали сотни историй…»
И идут две страницы про неиндивидуализированных «они» и про их банальные истории. Две страницы скрытого презрения хоть и мини, но супермена, — презрения к серой массе.
А если и было исключение (Гурьев пришел с тем, что он к вере в Бога пришел, ведь страна-то была атеистическая), то: «Мне полегчало, когда за ним закрылась дверь. Он пришел не к тому человеку».
Но в чем Немзер прав, это в ощущении самодостаточности. Не от горечи написана книга.
Гуковский писал: «…эмоция в искусстве – тоже идея, ибо эмоция дана не как самоцель, а как ценность: положительная или отрицательная,- как эмоция, подлежащая культивированию или, наоборот, подлежащая вытеснению. Тем самым произведение содержит оценку эмоций, а значит и идею эмоций».
Вот потому, что нет горечи у Маканина, когда все так плохо, он и не реалист, а экзистенциалист.
А Немзер немного прав дальше:
«Вопреки интонационному напору герой с первого абзаца начинает двоиться, текст — вибрировать. Установка на торжественную окончательность высказывания приходит в противоречие с постоянным смысловым мерцанием».
Вот только это двоение и мерцание просто признак художественности, по Выготскому. Это материальное обеспечение противочувствий читателя, от столкновения которых в читательской душе происходит «третье» переживание, катарсис. Осознание которого делает Маканина во мнении читателя последователем все же не Лермонтова, а Хайдеггера (любившего, кстати, романтика Гёльдерлина, а не, скажем, реалиста Гете).