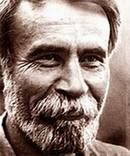7
О том, какова же маканинская концепция человека, в критике идут споры. Определеннее всего о герое Маканина высказался Л. Аннинский: писатель изображает выходца из барака, «серединного» человека35, лишенного ярких индивидуальных черт, и посему — в области уже поэтики — довольствуется образом-стереотипом. И. Роднянская находит у Маканина «запечатление живых лиц» со «своим особым нравом и судьбой», хотя, с другой стороны, пишет о маканинском антипсихологизме. Но ведь не исключено, что это — не непоследовательность критика, а внутреннее противоречие самой маканинской прозы, в которой В. Бондаренко видится постоянная «перемена от крайнего обобщения, от знака до живого невычисленного голоса. Постоянная пропасть между обобщенным типом и живыми голосами»?
Нам представляется, что в каждом из приведенных высказываний есть своя доля истины. Главная путаница и видимая рассогласованность критиков с самими собой и друг с другом проистекают из первоначального неразделения объекта изображения и принципов изображения. Согласимся, что, например, барачную «безындивидуальность» или «среднего инженера» 70-х годов36 можно воссоздать как выразительнейший характер, а яркую личность какого-нибудь романтического разбойника Серого можно представить на пределе обобщения, как образ-знак. Поэтому сосредоточимся первоначально на маканинской концепции человека (предмета изображения).
Действительно, почва, на которой произрастает маканинское понимание личности (или безличности?), — «общая жизнь, общая срединность, из которой очень трудно вырваться». Верно и то, что барачная безындивидуальность органически перетекает в стереотипизированный облик горожанина-неофита, но с одной существенной утратой: утратой чувства слитности с другими. Отчуждение, разъединенность городской жизни, воссоздаваемой Маканиным, вовсе не являются результатом выделения индивидуальности из «роя», платой за рост личностного самосознания — горожанин бывает столь же безындивидуален, сколь и обитатель барака («Средневековье поставляет современности самых верных рекрутов» — так выразительно определена та же ситуация в романе С. Залыгина «После бури»). Л. Аннинский хотел бы маканинские размышления о человеке и его месте в порядке бытия на «срединной» безындивидуальности замкнуть: «лабиринт без выхода»37. И можно понять критиков (А. Бочарова, А. Михайлова, И. Роднянскую и др.), которые против такого — дегуманизированного (в точном значении слова) — прочтения Маканина восстают и стремятся найти у него яркие «характеры»: А. Бочаров с этой целью апеллирует к «романтическому» Маканину — автору «Безотцовщины», «Солдата и солдатки», И. Роднянская превращает в идеал Толю Куренкова, В. Бондаренко — вслед за А. Латыниной — Якушкина…
Но все дело в том, что Маканин — автор «Голосов» и всех следующих за ними произведений — не создает характеры и тем более типы (ср. тезис В. Бондаренко: «Маканин — создатель галереи типов нашего времени»38). «Утрата», «разрушение» характера, типа как формы завершающего изображения человека — вот с чего начинается «новый» Маканин. Стоит снова вернуться к его приведенным выше словам о неучастии живого в литературе, имеющей дело с типами и характером, иначе говоря, к маканинскому антипсихологизму. Нам представляется, что он — И. Роднянская здесь права! — ничуть не противоречит «запечатлению живых лиц», а быть может, и есть необходимое условие такого запечатления: смотря что под «живыми лицами» понимать…
36 «Звезда», 1986, N 8, с. 193, 188, 189.
37 «Знамя», 1986, N 12, с. 222.
38 «Звезда», 1986, N 8, с. 186.
Маканинский антипсихологизм, как и маканинские установки на диалог, продолжает линию Достоевского, о котором М. Бахтин писал: «…Достоевский категорически отрицает, что он психолог… К современной ему психологии — и в научной и в художественной литературе и в судебной практике — Достоевский относился отрицательно. Он видел в ней унижающее человека овеществление его души, сбрасывающее со счета ее свободу, незавершимость и ту особую неопределенность — нерешенность, которая является главным предметом изображения у самого Достоевского: ведь он всегда изображает человека на пороге последнего решения, в момент кризиса и незавершенного — и непредопределимого — поворота его души»39.
Вслед за Достоевским Маканин ищет не причинно-следственной связи слов и поступков, определяемой некими «психологическими закономерностями» («готовой», «вещной» определенностью, по терминологии М. Бахтина), а делает акцент на «прозрении», на диалогической, феноменологической интуиции. Разве можно подчинить одним «психологическим закономерностям» поведение матери умирающего Кольки Мистера? Или Игнатьева из «Реки с быстрым течением», которого И. Роднянская вдруг обвиняет во внутренней неготовности принять смерть жены, как если бы нормальный живой человек жил по уставам Сенеки, всю жизнь к смерти приуготовляясь? Или того же купца Пекалова, одержимого безумной идеей рытья тоннеля под рекой Урал? Тут ведь — воспользуемся точной формулой Л. Аннинского — какой-то «психологический выверт» (стр. 223), а вовсе не психология, диктующая линию развития характера. Поэтому не вызывает удивления, что и «характер» Маканин стремится отбросить. В свете сказанного — это вполне логичный жест: ведь «сердцевиной… психологической прозы… был и остается литературный характер»40.
39 М. Бахтин, Проблемы поэтики Достоевского, М., 1979, с. 71
40 Г. Белая, Литература в зеркале критики, М., 1986, с. 22.
Место характера, психологического или социального типа у Маканина заступает голос. А «голос» — это то, что таится в каждом из нас и роднит всех нас между собой. Очень важным для понимания сути творчества Маканина является, на наш взгляд, соображение М. Липовецкого о стремлении писателя прорваться сквозь быт к бытию: «Ведь о чем те голоса, которые описывает Маканин? О смерти, еще раз о смерти, о смертельном стыде за то, что чего-то испугался. Голоса — это неосознанные, интуитивные, подсознательные (во сне, в генетической памяти) связи человека, живущего в быту и бытом, с эпическим масштабом ценностей. Необходимость не бытового, но бытийного взгляда на человека — вот та мысль, которая последовательно доказывается Маканиным…»41.
Диалектика разрушения-восстановления целого — движущее начало прозы Маканина. Она ведет писателя от стереотипа, от безличностного к межличностному, к междомью, где встречаются не только жители Аварийного поселка, оплакивающие умерших, но и автор — читатель — герой, объединенные общей человеческой участью.
Главная ловушка, которую устроил Маканин критике, — это постоянная игра-подмена «стереотипов» и «архетипов». Оба понятия действительно обладают бросающимся в глаза сходством: и то и другое — внеличностные схемы42, моделирующие человеческое поведение и тем самым противостоящие образу уникального «я», которое созидается в процессе духовного творчества. Вместе с тем стереотип и архетип — явления качественно различные. Стереотип — внешнее, поверхностное, рожденное стремлением человека «подогнать» свое «я» под общепринятые нормы жизни, стандартизованную систему взглядов; архетип — «схема», закодированная в глубинах человеческой психики, человеческого «бессознательного». Стереотип — результат механического воздействия на психику извне (ср. ту же тесноту барака или толчею переполненного автобуса). Архетип — структура органическая, заложенная в филогенезе. Поэтому стереотип омертвляет личность, а архетип — «модель порождающая». Наконец, стереотип закрыт, замкнут, а архетип «размыкает индивидуальную психику… «вниз», в направлении коллективного бессознательного…»43.
41 «Урал», 1985, N 12, с. 151.
42 «Архетип формален, он есть форма, феноменологическая структура», — отмечает С. Аверинцев в статье, посвященной «аналитической психологии» К.-Г. Юнга и закономерностям творческой фантазии (сб. «О современной буржуазной эстетике», М., 1972, с. 127). Вслед за автором этой статьи мы используем понятие «архетип» как рабочую гипотезу, как скорее филологический (нежели философско-психологический) термин, удобный для описания определенных принципов образотворчества, которые противостоят классической традиции воссоздания пластически зримых, психологически «вылепленных» характеров.
Подобная традиция, как показано у С. Аверинцева, порождена определенными условиями и потребностями эпохи, но далеко не исчерпывает всех возможностей искусства. Так, в статье сочувственно приводится цитата из Д. Лихачева о том, что в древнерусской литературе «психологические состояния как бы «освобождены» от характеров» (с. 136). Вывод этот, считает С. Аверинцев, приложим также к ряду явлений реалистической литературы XIX века, не говоря уже об искусстве нашего столетия, которое далеко от того, чтобы жить «исключительно монадической концепцией индивида» (с. 137).
43 «О современной буржуазной эстетике», с. 139
Выразительнейшим образом этого «коллективного бессознательного» является у Маканина поселковый мелос, строй и лад которого разрушает индивидуальное творчество Башилова. Расплата, однако, не замедлила сказаться: его собственная музыка беззащитна перед лицом массовой культуры; попадая в сферу массовых коммуникаций, она стереотипизируется, утрачивает личностное начало. Как же сокрушить всепожирающего Молоха массовой культуры? Когда Башилов разрушает — хотя бы в мечте — обступившие поселок и завладевшие им музыкальные стереотипы, то на развалинах разрушенного ему слышится не собственная музыка, а «высокий чистый голос ребенка» — голос воскрешенного архетипа.
Тот же путь, что и его герой, проходит сам Маканин. Ломая все возможные стереотипы (первый среди них — «литература»), он устремляется не к индивидуальности, характеру, но — нередко минуя их — к архетипу, к голосу. Ведь голос — то изначально живое в глубинах, в раскопках человеческого «я», что существует до и помимо всякой психологии. Отсюда — и особое пристрастие писателя к изображению детства и старости, самых архетипических возрастов человеческой жизни, отсюда — и постоянное стремление столкнуть обкатанного жизнью героя с ребенком или стариком, чтобы вернуть его к тому истинному, что в нем заложено и, казалось бы, навечно погребено под толщей благоприобретенных стереотипов.
Рассказывая о пробуждении в «антилидере» Толе Куренкове ненависти к очередному «выскочке», Маканин представляет этот «взрыв бессознательного» чисто физиологически: «Куренков чувствовал себя примерно так, как чувствуют люди надвигающуюся болезнь… Нет-нет, и он держался рукой возле живота: ощущал там жжение. К ночи оно усилилось, поднимаясь почти к сердцу».
Живот (с жжения в нем начинается приступ) — животное — живое — вовсе не случайный лексический ряд, а точное указание направления (в глубину, «вниз»), в котором происходит залегание архетипов. Потому же так много физиологического и в истории «предтечи» Якушкина, дар коего заключен в умении оживлять в своих пациентах архетипические слои психики.
Якушкин адресуется не к личностям, а к доличностному в человеке44, проступающему из глубины на поверхность в особые — трагические — моменты жизни, прежде всего на пороге смерти. Тут-то все одинаковы и все равны. В каждом болящем живут архетипическая жажда веры, желание опереться на что-то Верховное, припасть к чему-то, как младенец припадает к материнской груди, — вопреки существующему стереотипу волевого настроя больного. Опровержение этого медицинского постулата Нового времени Маканин начал еще в рассказе «Пойте им тихо», героиня которого — старушка, «заговаривающая» жалостливыми причитаниями целую палату, — далекий, но явный прообраз «предтечи».
44 Как уже отмечалось, в архетипе есть нечто «животное», так что далеко не случайно последним слушателем «предтечи» является пес, быть может, больше чем кто бы то ни было способный воспринять интонации голоса старика
Если вернуться к Якушкину, то его призывы к «покаянию» — это не только призывы к освобождению от стереотипизированного городского образа жизни, но и к уничтожению стереотипов цивилизованного сознания, установка на то, чтобы опереться на «коллективное бессознательное». Разбуженное Якушкиным «коллективное бессознательное» в ответ начинает продуцировать свой миф о Предтече. Но поскольку оно уже оторвано от почвы, перенесено в городское обитание, то миф о Предтече — в этом и заключается один из главных парадоксов повести45 — вскоре сам стереотипируется, приобретает обличье городского лубка, овнешняющего, делающего плоскостным образ Якушкина. Таким образом, заложенное в структуре повести сопротивопоставление архетипа и стереотипа, глубины и поверхности, прозрения и спекуляции на загадочном и постулирует ее столь трудно уловимую для критической мысли стереоскопичность.
Однако архетипу у Маканина противостоит не только стереотип, но и выделившаяся из целого, замкнувшаяся на себе самой и узурпировавшая право «судии» монологическая индивидуальность. Характернейшие продукты этого гротескно-гипертрофированного развития личностного сознания — герои повести «Один и одна», занятые умозрительным конструированием неподвластной им стихии жизни. Но и здесь основным принципом изображения остается голос. Голоса Геннадия Павловича и Нинели Николаевны, которые звучат, однако, не из глубины, а из пустоты, творят образ мира, где вымысел неотличим от правды, иллюзии от реальности, мечты от яви. Попавший под их власть повествователь вдруг сам начинает сомневаться: «Может быть, я выдумщик, и потому не только Нинель Николаевна и Геннадий Павлович, но также все прочие мои знакомые и приятели, и моя семья, жена, дочь, все люди и города и деревни и весь мир вокруг — это хрупкая, моя и не моя, выдумка».
45 Другой — гротескное отождествление «материи» и «духа» в границах мышления самого Якушкина — проанализирован нами в статье «В пространствах новых…» («Литературное обозрение», 1986, N 11)
Таким образом, у Маканина есть голоса и «голоса». Полюс тяготения первых — безмолвие, откровения, «музыка», слышимые в «огромную» минуту, полюс тяготения вторых — «слова, слова, слова…». Конечно, нельзя сказать, что те же Геннадий Павлович и Нинель Николаевна — люди, напрочь лишенные бессознательного (таковых вообще нет). Более того, известно, что «сон разума порождает чудовищ», доказательством чему — «нагой сон» Нинели Николаевны или позорное растворение Голощекова в вульгарной стихии даевского загула46. Однако архетипическое упрятано в их сознании столь глубоко, что остается одна только «поверхность». «Я никогда не опускался» — характерная присказка Геннадия Павловича, в которой заложен второй — негативный — смысл, воскрешающий корневое, буквальное значение глагола движения «опускаться». В свою очередь символом «поверхностного» сознания Нинели Николаевны служат зеркала, которыми она увешивает свою квартиру, или ее привычка рассматривать себя извне — в витринных стеклах (Геннадию Павловичу для этой цели служили книги — «зеркала» недоступной ему вещной реальности).
Им бы какого-нибудь Якушкина — но без плебейской псевдоучености (действующей разве что на продавщицу из соседнего гастронома), Якушкина — рафинированного, владеющего приемами психоанализа… Но вместо Предтечи к ним является мягкий, интеллигентный Игорь, которого хватает лишь на то, чтобы терпеливо «одного» и «одну» выслушивать.
46 Параллель — герои «Степного волка» или «Смерти в Венеции», вдруг с высоты своего интеллекта сорвавшиеся в дионисийство.
Тут мы приближаемся к главному: воскрешение архетипов — необходимое, но далеко не единственное условие выхода личности в междомье. Архетип размыкает «я» только «вниз», по вертикали, но ему не дано вывести на, горизонталь диалогического общения. «Коллективное бессознательное» потому и бессознательное, что объединяет людей помимо их сознания. А для сплочения на такой основе необходима некая внешняя побудительная сила (особые обстоятельства, определяющие уклад жизни Аварийного поселка, или «магическое» воздействие шаманских монологов Якушкина на членов его секты, тут же распадающейся, едва исчезает чудесный «дар» «предтечи»). Маканин не может не видеть ограниченности подобного «роевого» сознания, поэтому его собственный идеал (а он-таки у писателя есть!) расположен на другом уровне. Идеал Маканина — на первый взгляд столь же утопический, как и мнящийся Башилову хор детей, которые, приобщаясь к старинному многоголосию, сохранят песню и спасут музыку, — выйти через воскрешение архетипического к подлинному диалогу сознаний. Но там, где Геннадий Башилов отступает, Маканин настойчиво пытается этот идеал реализовать, — повторимся, — в коммуникативной системе «автор — герой — читатель». Причем на читателя как раз и возлагается миссия осознать, отрефлектировать все, что не всегда осознает герой и что демонстративно не желает отрефлектировать автор. Не потому ли проза Маканина получила у критиков клички-»стереотипы»: «умозрительная», «интеллектуальная», «конструктивная» и т. п.? Подобные определения характеризуют не столько поэтичнейшую и музыкальнейшую прозу автора «Голосов», «Где сходилось небо с холмами» как таковую, сколько те требования, которые предъявляет она читателю, обязанному многое за писателя до-строить («сконструировать»), за героев — до-мыслить, до-прозреть (умозрение, как показал еще Платон, не столь уж дурная вещь!). Читателю некогда расслабиться, нельзя раствориться в чужой жизни, уйдя от собственной: то и дело приходится ожидать «удара сверху»… Очень некомфортно. Воистину Маканин — «жестокий» писатель.
8
Жесткость, даже беспощадность по отношению к читателю (зрителю, слушателю) — едва ли не одна из самых характерных черт современного искусства. «Живи и помни», «иди и смотри», «узнай и покайся», «читай и думай» — сплошные категорические императивы, не оставляющие места для душевной расслабленности и снисходительного самооправдания, а ведь помнить бывает чудовищно трудно, смотреть невмоготу, каяться вроде бы не в чем, думать непривычно… Раньше хоть была спасительная возможность все списать за счет «других», обнестись частоколом успокоительных фраз: «мы — они», «свои — чужие», «люди — нелюди». Теперь же начинать приходится с себя, спрашивать и за страшное «исчезновение», и за единую «плаху», и за общий «пожар». Не потому ли первейшими становятся вопросы о самой природе человека и мере взаимной ответственности людей, насущнейшим — самопознание во имя диалога с «соседями по времени»?
Поворот литературы в эту сторону начинается с обнадеживающим размахом, заметен в сфере идей и образов, эстетики и поэтики. Критики даже заговорили об открытой публицистичности как плате искусства за нетерпение и жажду перемен. Но «нетерпение» на нашем веку успело наделать столько бед, что куда важнее обратить внимание на основательность перемен, глубинные почвенные сдвиги, происходящие в недрах художественного слова. Проза Владимира Маканина занимает здесь, думается, не последнее место, что и побудило нас к ее пристальному анализу, тщательному рассмотрению. К ее «обнажению», пользуясь излюбленным маканинским определением.
С.Пискунова, В.Пискунов