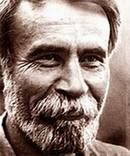6
«Один и одна» — итог разрушения жанра портрета в прозе Маканина, но… при одновременном сохранении и использовании некоторых важных его свойств. Именно через портрет, застигающий человека в каком-то ракурсе, положении, состоянии, писатель и вышел в свое время — во второй половине 70-х годов — к ситуации, ядру всех его сюжетных построений. Начиная с «Голубого и красного», «Простой истины», «Пустынного места», Маканин выстраивает повествование, ориентируясь не на сюжет-фабулу, а на сюжет-ситуацию, который строится как развитие, варьирование одного исходного положения: по мере развертывания сюжета оно оборачивается новыми гранями, обогащается новыми смыслами 32. Например, сюжет может основываться на изначальном, «коренном» противостоянии двух социально-психологических миров, посланцами коих выступают в «Голубом и красном» бабушки маленького Ключарева. Или на подспудном стыдном стыде героя-повествователя из «Простой истины», который никак не может исцелиться от внешнего — «овнешняющего» — взгляда на близкую женщину. Или на «потребности в вере» (И. Тертерян) новоявленного горожанина из «Предтечи», оторванного от природных корней и не приобщившегося к «высокой культуре». Или на ощущении героем своей экзистенциальной вины («Где сходилось небо с холмами»). Или на вечной ситуации «изгнания», «отторжения» от лика божества (ср. ветхозаветное изгнание из рая, прямо пародируемое писателем в «Человеке свиты»). Или на архетипе «отставания» («Отставший»).
32 Различие между сюжетом-фабулой и сюжетом-ситуацией сформулировано Л. Пинским в связи с анализом «донкихотовской ситуации» (см. в кн.: Л. Пинский, Реализм эпохи Возрождения, М., 1961, глава «Сюжет «Дон-Кихота» и конец реализма Возрождения»). Вот откуда — из «донкихотовской ситуации»- отмеченное критиками сходство персонажей Маканина с Рыцарем Печального Образа — героем первого произведения новоевропейской литературы, основанного на сюжете-ситуации. Это сходство — не сущностное, не содержательное, а чисто структурное. «Донкихотовская ситуация» возникает из навязчивого, маниакального следования героя своей «идее». Если бы приключения Дон Кихота, как отмечает Л. Пинский, завершались бы первой же неудачей, то не было бы ни образа Дон Кихота, ни «вечного» донкихотовского положения. Так и у Маканина: если бы Толя Куренков однажды единожды избил «лидера» и угодил в тюрьму, то не возникло бы образа «антилидера», как не стал бы «предтечей» и Якушкин, не отличайся его «опыты» столь маниакальной устремленностью. Но совпадения эти, еще раз подчеркнем, возникают не оттого, что Маканян хотел бы сделать из Якушкина или Куренкона Дон Кихота, а оттого что он ориентировался на определенные принципы сюжетосложения, классическим воплощением которых является «Дон Кихот» После Сервантеса на открытый им сюжет-ситуацию ориентировались и многие другие прозаики: Гоголь, Диккенс, Достоевский, Флобер, Андрей Белый, Ю. Олеша — автор «Зависти»…
Итогом движения к бесфабульности является все та же повесть «Один и одна», в которой многое происходит и… не происходит ничего. Мысль Голощекова о том, что его жизнь — сплошное «топтание на месте», изоморфно воспроизводится в структуре повести, где фабула «линии жизни» дробится, распадается на множество мельчайших движений, каждое из которых по-своему значимо, но значимо само по себе, «на особицу», не образует с другими причинно-следственной или чисто хронологической связи (разобщенность, несостыкованность, изолированность эпизодов подчеркнуты даже графически — отбивками, которыми буквально испещрен текст повести).
Читательское ожидание легко просчитывает наперед стереотипическую фабульную схему (это будет произведение о том, как двое одиноких, еще не старых, но уже и не молодых людей не могут найти друг друга, либо, напротив, друг друга находят). Но Маканин очень скоро отрабатывает и отбрасывает ее в обоих возможных вариантах, да еще и пародирует в детективном сюжете о двух разведчиках с двумя полурыбками.
Все же события — если их можно назвать «событиями», — которые в повести случаются (унижение, пережитое Нинелью Николаевной в доме бывшего сокурсника, ее покушение на самоубийство, неудачный роман Геннадия Павловича, завершившийся тем, что он был выброшен из электрички, и т. д.), сюжетно представлены как сплошные вариации все той же конфузной ситуации33. Конфузом заканчивается попытка Нинели Николаевны найти сочувствие у бывшего сокурсника (чуточку приоткрылась, раскрыла душу — и… оказалась раздетой). А разве не конфуз ее наивные попытки отстоять свое «место под солнцем» звонком: начальству домой (непростительная фамильярность и незнание того, о чем знают все: сильные мира сего никогда сами — даже дома — не снимают телефонную трубку)? Конфузом оборачиваются и робкие шаги Геннадия Павловича, стремящегося завести знакомство с молодой женщиной. И компенсируются все эти «конфузы» разговорами с Игорем, точнее, монологами перед Игорем, так что его приходы к «одному» и «одной» воистину для них событийны.
33 «Конфузное», как уже говорилось, для Маканина вовсе не нелепое, смехотворное, анекдотическое, но — обнажающее, раскрывающее то, что человек таит и от окружающих, и — нередко — от себя самого. Так, Геннадий Павлович таит от себя бесплодность и бессмысленность собственного эгоцентрического существования, а Нинель Николаевна — крах своей женской участи
Главным же «событием» повести остается событие встречи двух типов сознания: монологического и готового к диалогу, замкнутого и открытого. Сознания, базирующегося на представлении о своем превосходстве, личной значимости, отмеченности (такого рода индивидуализм всегда готов трансформироваться в свою противоположность — в идеал «ройности»), и сознания, нацеленного на поиск того, что есть в каждом, — при сохранении «самости» каждого.
Многократное варьирование одного и того же сюжетного положения в сочетании с «вечно длящимся» диалогом между повествователем и его героями (в повести сказано, что их разговоры вполне можно было бы подклеивать один к другому и другой к третьему — получился бы «некий непрерывающийся диалог, с некоторыми разве что повторами») как раз и создают эффект остановившегося времени, вечно длящегося настоящего, в котором изображаемое время как бы сливается со временем изображения35. Или, другими словами, «огромного» мгновения, в котором и «высвечивается» человек целиком. Оно не имеет, как правило, особого значения для эпического контекста повествования, но по существу стягивает к себе все нити человеческой судьбы.
Для Маканина, по его собственным словам, неприемлем способ рассказывания «в прошедшем времени», который придает повествованию «привкус завершенности жизни. Выведенный из бесконечности бытия, человек замыкается на бесконечность литературы — он словно бы и не человек, и конец рассказывания как конец жизни. Когда человек здесь — его нет там». Маканинские Игорь, «один» и «одна», все его герои — здесь, в том же времени-пространстве, что и мы, читатели. Они, как и мы, пребывают в бесконечности бытия. Потому-то события повести ни на йоту не продвигают сюжет вперед, к развязке, которой вообще нет: есть «формально-условное» (в терминологии М. Бахтина) окончание.
Чтобы заранее уничтожить возможность развязки, автор проигрывает гипотетические варианты смерти своих героев, — а смерть может быть единственным сущностным завершением человеческой жизни, — задолго до конца повествования. Нет, в воображаемых смертях Геннадия Павловича и Нинели Николаевны нет ничего экспериментаторски-издевательского, как считает Н. Иванова. Есть другое — стремление оставить их в конце повести живыми, а их судьбы — незавершенными…
Действительно, и Голощеков, и Нинель Николаевна окаменели, застыли в своем одиночестве, но они — не «конченые». И потому повествователь, перебрав все возможные варианты их будущей старости, которая замыкает жизнь, все их отбрасывает: «трудно представить». Но ведь и собственное будущее Игоря непредставимо. А представляешь ли себе свое будущее ты, читатель? Или повторишь то, что «могут почти все люди сказать о своем будущем: — Я ничего этого не знаю»?
Именно установка на незавершенность человека, органически продолженная в виде диалога как способа познания действительности, одновременно выводит писателя за пределы традиционного психологического повествования.
35 «Знамя», 1986, N 12, с. 221.