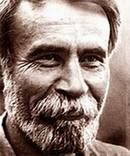5
«Портрет ничего не может выразить, даже и того, что он портрет… Портрет как всякий жанр — заблуждение. Игра с собой. Но и хуже — игра с читателем» — так рассуждает Геннадий Павлович Голощеков, усиленно портретируемый — наряду с Нинелью Николаевной и всем своим поколением «шестидесятников» («Он был такой не один — их было много!») — в повести «Один и одна».
Портрет — описание извне, отчуждение, овнешнение личности описываемого, в чем повествователь Игорь прекрасно отдает себе отчет: «Я ведь… умею смотреть на него не личностно. Он мне — никто».
Да, портрет — жанр, который нацелен на изображение личности — в неличностном ракурсе; личности, которая не может тебе ответить, задать вопрос, вступить в спор. Так по крайней мере понимает этот жанр Маканин и в таком виде на этот жанр ориентируется. Точнее, ориентировался довольно долгое время: итогом его «портретных» изысканий и стал роман «Портрет и вокруг», после которого Маканин, кажется, понял всю опасность и ограниченность «портрета» — при его немалых возможностях. В результате появилась повесть «Один и одна» — откровенная ревизия романа «Портрет и вокруг». «Портрет» в ней, что легко показать текстуально28, лишь одна из жанровых точек зрения, одна из перспектив, в которых представлено поколение «шестидесятников».
Маканин, как нам думается, преднамеренно сближает повесть и роман, обращаясь к одним и тем же действующим лицам — Игорю и его жене Ане, — варьируя единую фабульную схему29: подобно тому как в романе Игорь собирает материалы для портрета главного героя, здесь, в повести, он также посещает Геннадия Павловича и Нинель Николаевну, чтобы сложить — штрих к штриху — их двойной портрет. Однако это совпадение — чисто внешнее. В словах Игоря: «Я… умею смотреть на него не личностно» — очень значимо словечко «умею»: «умею», — значит, смотрю так не всегда, не согласно отработанному навыку, а когда надо, делая при этом волевое усилие. Когда надо — в ответ на попытки Голощекова видеть в Игоре всего лишь одного «из следующих».
28 Вот как строится первая глава повести: от несобственно-прямой речи, от изображения происходящего в ракурсе восприятия Голощекова (это — никак не портрет!) автор переходит к протоколирующему описанию от третьего лица (собственно «портрет»), предоставляя затем слово повествователю: «Когда… я пришел к нему по некоему книгообменному интересу». По принципу смены ракурсов строится и вторая глава: «портрет» («К тому времени, когда Геннадий Павлович Голощеков сделался молчаливым…»)- несобственно-прямая речь — снова «портрет», который тут же переходит в несобственно-прямую речь, — опять «портрет» и т. д. Аналогично построены и все другие главы.
29 Следовало бы отметить и фабульную связь повести «Один и одна» с рассказами «Милый романтик» и «Наша старушка хорошо декламирует».
Неличностно, портретно смотрит на мир прежде всего сам Геннадий Павлович (что не мешает ему осуждать за портретирование Игоря), а также Нинель Николаевна: для них обоих Игорь — не Игорь со своей судьбой, характером, мироотношением, а стереотипизированный образ представителя нового поколения — того, что идет следом и безжалостно вытесняет из жизни отпылавших «хворостенковых». «Обычно он поругивает меня за практичность (хотя я не практичен), за явную приспособленность к жизни (хотя Я приспособлен весьма средне) и за отсутствие желания изучать глубоко мир книг и мыслей (и тут он не прав: желание есть — другое дело, что мало удается). Этот слой культуры поучения скорее всего мифологичен. Но поскольку Геннадий Павлович ведет речь не обо мне лично, а обо мне вообще, то я и не возражаю. Условность — это почти условленность» — вот первое, что сообщает нам повествователь о правилах своего общения с Геннадием Павловичем.
Голощеков не слышит и не желает слышать чужого голоса. Для него на одно лицо и Игорь, и хамоватый Даев, и «злодей» Птышков, наушничающий начальству, и бездельник Зайцев. В его представлении существует множество «других», чем-то на Игоря «очень похожих», — всех тех, кто моложе самого Голощекова «на десять, на пятнадцать… на двадцать пять лет» и кому он адресует раздраженно-безличностное «вообще вы».
В свою очередь и Нинели Николаевне «не хочется человека… ей хочется образа», поэтому она обращается с Игорем в том же — на «вы» с маленькой буквы — модусе: «вы неверящие; и лишенные светлого начала — нытики… вы — жалкие прагматики… вы как слепцы, что боятся наткнуться на забор…».
«Непрощение (подчеркнуто нами. — С. П., В. П.) тем, кто пришел в жизнь следом», — вот пафос мироотношения «одного» и «одной». Основной жанр их высказываний — монолог30 (собственно, протокольная запись их монологов занимает значительную часть художественного пространства повести). Оттого-то и обречены Геннадий Павлович и Нинель Николаевна на одиночество — даже среди подобных себе, внутри своего «роя», в пределах собственного «выводка»: установка на то, чтобы видеть в других только «представителей», только «воплощение», не «человеков», а «образы», распространяется и на своих, а не только на «следующих». Поэтому Геннадий Павлович никак не совмещается в сознании Нинели Николаевны с ее идеалом- образом молодого офицера лермонтовской поры, а Нинель Николаевна в сознании Геннадия Павловича — с образом милой женщины, для которой он, Геннадий Павлович, был бы кумиром, как некогда для стайки влюбленных в него студенток.
30 Подобная недиалогическая форма взаимоотношений между людьми характеризуется в повести как искусственная, насилующая живую жизнь, — «мы общались просто, как в театре».
Нет, не просто «портрет» поколения «шестидесятников» создал Маканин — он воспроизводит характерный романтический строй сознания. И не против «шестидесятников» как таковых направлена его повесть, а против романтического, монологического, замкнутого на себе самом мироотношения.
То, что в «Один и одна» речь идет именно о романтизме, выявляется не только и не столько в пятигорских «убегах» Нинели Николаевны, сколько в одной чрезвычайно важной для Маканина детали: ни у Геннадия Павловича, ни у Нинели Николаевны не было детства, во всяком случае, они его совершенно не помнят, ведут счет от юности, в которую навсегда — намертво — замурованы. У них не только «культ своей юности», а культ юности вообще, которая, как известно, нераздельна с романтизмом, самая романтическая пора жизни.
Отсутствие детства предполагает и отсутствие старости, того особого состояния, в котором человеку — как его понимает Маканин — открывается истинная суть бытия, состояния, «когда все-таки детство пересилило и зрелую нашу жизнь, и героическую юность, и все прочее, пересилило и на витке совместилось со старостью, совпало, сомкнулось, сближая самых разных людей — и друг с другом, и с надвигающейся вечностью покоя».
Представить себе Нинель Николаевну и Геннадия Павловича на таком витке их существования немыслимо («Не может быть такого рассказа, не вижу его и не чувствую»). А ведь к этому состоянию — открытого общения всех со всеми — как раз душевно и устремлен Игорь. К состоянию диалога, который был бы способен воскресить «прощающие всё и всех времена». И не из простого любопытства (предположение жены Игоря Ани, тотчас подхваченное критикой), не для равнодушного портретирования «одного» и «одной», не для каталогизирования их черт и черточек (это для Игоря, как он сам признается, прошлое) приходит «раз в полгода» к Геннадию Павловичу и Нинели Николаевне Игорь. Что-то иррациональное, не вполне объяснимое для него самого привязывает его к ним, заставляет принимать предложенную ему роль, подыгрывать, терпеливо выслушивать, а то и исполнять миссию брата милосердия. Игорь приходит и приходит вопреки всему — житейским соображениям о том, что берет на себя дополнительные бытовые обязательства психологической перегруженности, мало приятной необходимости постоянно пребывать в образе. Приходит, повинуясь внутренней потребности, складывающейся из самых разных стимулов.
С одной стороны, Игорь чувствует себя в судьбе Геннадия Павловича и Нинели Николаевны, в судьбе всего их «выводка» «отчасти виновным». Это чувство вины — сродни тому, что приводит Башилова на песенные развалины, чувство, имманентное духовному статусу всякой личности (что прекрасно почувствовала И. Роднянская). С другой стороны, — в отличие от Геннадия Павловича и Нинели Николаевны, окостеневших в своем положении, — Игорь постоянно примеривает их судьбу на себя, пытается найти точку соприкосновения, ракурс совпадения с ними: «Будущее немного — или, пожалуй, не столь уж многовариантно, и потому, просачиваясь в мысли и в повседневность, оно не случайно фиксирует нам в повседневности тех или иных людей, оно для нас их обнаруживает; опережая время, оно их в нас засвечивает. Не мы провидим будущее; оно — нас». Сколь характерна для Маканина эта нацеленность на будущее, открытость будущему!
Совпадение себя с Голощековым Игорь находит и в прошлом, именно на том его отрезке, который вплотную соприкасается с будущим, — в детстве. Судьба Игоря и судьба Геннадия Павловича объединены мотивом снега (он стирает границу между бытием и бытом, жизнью и смертью), ощущением, которое испытывает человек, лежащий в снегу, — при всей разности ситуаций и настроений, в которых «высвечены» маленький Игорь, кувыркающийся в снегу («холод я ощущал проникающими в меня тонкими приятными иглами»), и выброшенный из электрички Геннадий Павлович («был снег, и по ощущению холод и стужа просачивались в тело быстрыми тонкими струйками»).
Наконец, есть нечто ущербное и в самом Игоре, что он пытается восполнить встречами с Геннадием Павловичем и Нинелью Николаевной. «Не поступаясь детством, не предлагая его в обмен, я все же жалею, что у меня не было юности», — сознается Игорь. И его — человека, не имевшего юности, — мы должны пожалеть вместе с Геннадием Павловичем и автором.
Читая повесть Маканина, трудно не почувствовать, что наряду с ироническим изображением времен горения «хворостенковых» в ней отчетливо присутствуют и ностальгические интонации: «Традиционно пьянило слово «справедливость», но еще более Геннадия Голощекова пьянило само общение людей, новизна общения… сопричастность была огромна. Стоял зеленый шум. (Казалось, жизни не было — жизнь начиналась. Даже любовь — святое юных — была окрашена общечеловеческой сопричастностью. Расставались не вдруг, а в процессе необратимых взаимных оскорблений, а подчас, увы, лишь оттого, что он пылал верой в современную поэзию, а она, бедная, не понимала периодов развития Пикассо. Или, напротив, — именно она сама и навсегда оставляла своего дружка, оставляла с негодованием, вдруг обнаружив, что бедный малый в душе своей конформист.
Перетерпела и дружба)».
Зачем тут скобки? А затем, думается, чтобы отделить «высокое» от «травестийности», дорогую автору и по сей день идею сопричастности от судорог романтической экзальтации. Времена «зеленого шума» воссозданы в повести не только извне — «портретно», но и изнутри — как утраченная часть жизненного опыта, как «полурыбка», к которой Игорь никак не может найти собственную половинку. Потому-то, нацеленный на понимание Геннадия Павловича и Нинели Николаевны, Игорь так и не выходит в отношениях с ними на уровень подлинно диалогического общения. Они говорят, вещают, обличают, а он — помалкивает, слушает, подыгрывает, уходит от прямого ответа, когда они в своих речах невольно подступаются к самому главному, сущностному. Лишенный юности — времени наиболее активного общения, говорения, — Игорь также замкнут в своей, совпавшей с временами безвременья судьбе. В своем «портрете». И выходит, что, сориентированная на диалог с читателем, повесть «Один и одна» внутри себя является миром, населенным одинокими, утратившими контакт друг с другом и с миром сознаниями.
Своего рода «красным», дополняющим «голубое», выстраивается по отношению к повести «Один и одна» новая повесть писателя — «Отставший» («Знамя», 1987, N 9), где Игорь и юный Голощеков как бы сливаются в одно лицо, заимствовавшее у Геннадия Павловича его имя31. Складывается впечатление, что Маканин-шахматист проигрывает очередной вариант, начатый ходом: у Игоря была юность, совпавшая со временем Геннадия Голощекова, сам Игорь — нет, уже не Игорь, а Гена — тогда горел: сострадал возвращающимся из лагерей репрессированным, мучился перед теми, кто не вернулся, «впадал… в чувствительность», упивался «высокими словами и пылкими разговорами», слонялся окрест редакции «Нового мира», возглавляемого Твардовским, мечтая принести туда первую свою повесть. Но — опоздал, отстал от времени, от поколения, на которое он и его «собратья-студенты» смотрели с восторгом и обожанием… И вот теперь — десятилетия спустя — Гена, оказавшийся, судя по всему, человеком состоявшимся, семейным, благополучным, маясь с нервнобольным отцом, которого мучает один и тот же сон — как он отстает от «своих», от каких-то срывающихся в ночь грузовых машин, — вспоминает свою горячечную юность. А параллельно — этот прием у Маканина уже отработан до автоматизма — развертывается в вариациях старинная уральская легенда о юродивом Леше, наделенном даром чуять золото и вечно отстающем от старательской артели.
31 Попытка совмещения в одном лице опыта разных поколений (если вернуться к «Один и одна», то молодость Геннадия Павловича пришлась на вторую половину 50-х годов, которые отмечены волной массовых реабилитаций, а молодость Игоря — на конец 60-х) привела к хронологическому казусу: Гена, уехавший в Зауралье вслед за Лерой летом, вероятно, 57 или 58 года, возвращается оттуда осенью накануне ухода Твардовского с поста главного редактора «Нового мира», что произошло в действительности, как известно, в 1970 году.
Одна и та же ситуация — «отставание», вырастающее из архетипического чувства страха оказаться одному, отбиться от стаи, из «праболи — ужаса», — объединяет отца, Гену, Лешу… Но реализуется она в конкретных обстоятельствах всякий раз по-разному. В отличие от Леши, отстающий — не всегда «богом избранный», хотя «праболь» на всех одна. «Они строили и строили, потеряв уже, кажется, и цель и соотнесенное значение строительства. Они готовы были всё потерять, но не способность строить. Они только и держались за свои стройки — эта последовательность стала теперь и главной, и самой заметной чертой. Они удивляли стойкостью и даже жертвенностью, держась за свое последнее уменье — строить. (Но почему же оно обернулось ощущением отставания?)» — это о поколении отца. И звучит серьезно, даже трагически. Признание же Гены о его влюбленности в «то время», от которого он «отстал», обосновано куда менее убедительно. Почти фарсовая ситуация «оборачивания» Леры в грубую бабу, а «зека Васи» в страдальца-лагерника откровенно дискредитирует все то «эмоциональное многословие», которое самому Гене представляется «любовью». Да и не успеть напечататься в «Новом мире» Твардовского — это потрясение, пережитое Геной, вряд ли можно сопоставить с драмой поколения, у которого отняли юность, — с драмой Игоря из «Один и одна».