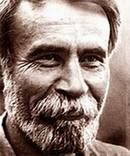4
«Метафизический» хронотоп прозы Маканина, предполагающий втискивание в новое пространство и в остановившееся время через «узкий тоннель», несомненно, сопряжен и с тем образом бытового пространства, что присутствует на страницах маканинских книг, — сопряжен по признакам узости, замкнутости, стесненности, духоты, ограниченности квадратными метрами места, на котором разыгрывается трагифарс человеческого существования. Теснота и общежитийность барака, заметенные снегом кварталы большого города, дома-соты с их бесконечными лестничными
пролетами, конторы, уставленные письменными столами, квартирки с пятиметровыми кухнями, на которых принимают гостей, загроможденные мебелью барские «хоромы» — этот маканинский «реальный» мир прекрасно описан нашими предшественниками, уже давно обратившими внимание на неприятие писателем тесного, замкнутого пространства. Поэтому мы бы хотели сосредоточиться на другом обстоятельстве — на том, что коррелятом замкнутого, стесненного пространства служит для Маканина и художественный текст с его жестко очерченными границами, издавна сложившимися канонами и стереотипами, с его традиционной установкой на завершение жизни. Между тем живая жизнь незавершима, как незавершим и образ живого человека: его «письмом на бумаге не передать… Всякое высказанное о человеке живом есть как бы односторонний оттиск его, та или иная приблизительная маска, опять же тот или иной стереотип. И за границей этого оттиска всегда остается нечто, художником не реализованное и не воплощенное… Именно так: одно из первых отрезвлений пишущего и одна из первых его утрат это горестное осознание, что живой в нашем деле не участвует».
«Драма» Маканина заключается не в его неспособности выработать определенное отношение к своему герою, как то полагает Л. Аннинский21, а в его принципиальном неприятии «литературы», этого зеркала, поставленного на большой дороге жизни. Маканин — против зеркала, против рамы, которой зеркало ограничено. Он — «а-литературен», и все его тавтологические уподобления («жизнь как жизнь», «люди как люди», «проводы как проводы»…) как раз демонстрируют нежелание писателя удваивать, умножать, «зеркализировать» жизнь в художественном тропе. В этом плане образность Маканина очень близка платоновской, если не прямо ориентирована на нее. «Платонова, — пишет С. Бочаров, — одинаково характеризует как потребность в метафорическом выражении, так и его опрощенный, «буквальный» характер, деметафоризация… Платоновская метафоричность имеет характер, приближающий ее к первоначальной почве метафоричности — вере в реальное превращение, метаморфозу»22.
21 См.: «Знамя», 1986, N 12.
22 С. Г. Бочаров, О художественных мирах, М., 1985, с. 258, 259.
Ведь метафора, особенно такая древняя, как «человек- червь», — тот же стереотип, а в прозе Маканина все нацелено на разрушение стереотипов, о чем в последнее время много и верно пишут критики. Правда, акцент при этом делается прежде всего на стереотипе как форме подавления личностного начала, как преграде на пути самовыявления индивидуального. Думается, однако, что маканинское поле борьбы со стереотипами значительно шире и захватывает также сферу собственно эстетического, начинается с особого понимания смысла и целей творческого труда, с идеи принципиальной незавершимости бытия и человека в слове.
Борьба Маканина с «литературой», в результате которой на месте добротно выстроенных романов, стройно сочиненных повестей и изящно завершенных новелл остаются «развалины», привела к появлению книги «Голоса»: материал живой жизни пребывает в ней как бы до всякого художественного оформления, существует помимо жанровой и сюжетно-композиционной упорядоченности. Но вглядевшись попристальнее, видишь, что фундаменты снесенных зданий все еще торчат из земли и на них кипит новая, «загробная», жизнь. И после «Голосов», рядом с «Голосами», Маканин пишет повести и рассказы, в которых он открывает для себя (как мы попытаемся показать далее) принципиально новые законы соотношения искусства и действительности, подрывающие, в частности, претензии традиционного жанра сущностно оформлять и завершать художественное целое. Вот почему неоправданны, на наш взгляд, попытки критиков встроить прозу Маканина в регулярный жанровый ряд, свести ее, например, к анекдоту, как то делает Н. Иванова: Маканин «строит на анекдоте практически всю свою прозу»23.
Критик определяет анекдот как «невероятное бытовое происшествие, раскрывающее коренную социально-философскую проблематику»24. Здесь не место вдаваться в подробную характеристику всех жанрообразующих признаков анекдота. Отметим лишь, что анекдоту присуща «завершенность»: полное сращение фабулы и сюжета (сюжет анекдота «рабски» следует за фабулой, его нельзя передать «в двух словах»), равно как и совпадение фабульной развязки и кульминации. Для Маканина, напротив, развязка — совершенно ненужный и несущественный момент повествовательной структуры. Иногда представляется, что «разрушение» литературы Маканин как раз и начал с уничтожения развязки как некоего итога фабульного движения.
23 «Литературная учеба», 1981, N 1, с. 122. Отсюда только один шаг к прочтению прозы Маканина как подчеркнуто литературной, на чем Н. Иванова и настаивает.
24 Там же.
В противоположность анекдоту, писатель издавна использует в качестве развязки некий стоп-кадр, выхватывающий героев из потока существования, но ничего принципиально завершающего в их жизнь не вносящий: такая «развязка» уже и не является развязкой в строгом смысле слова, а скорее некоей условной точкой (может быть, многоточием?), которую можно было бы поставить и в любом другом месте. Таковы «произвольные» окончания «Повести о Старом Поселке» («за окном тянется степь в ковыльном своем величии») и «Валечки Чекиной» («Он вытянулся весь в струну. И ждал, что же еще она ему крикнет»), «Приемных экзаменов» («Жара. Мы сидели в тени деревьев и пили пиво») и, конечно же, почти всех поздних произведений писателя. Развязка не только не вносит в повествование качественно новый смысл, а нередко просто возвращает его к какому-то уже пройденному моменту. Она по своей сути подобна маканинским оборотам с «как»: «Время шло, как и положено идти времени», — характерное для Маканина тавтологическое уподобление лишь акцентирует тавтологичность развязки, которая обращает фабулу вспять — к однажды уже случившемуся, произошедшему. «Потом отвлекла текучка, как и положено ей отвлекать… Потом он женился», — этот итог фабульного развития рассказа «Простая истина» возникает задолго до того, как в рассказе ставится последняя точка. То есть уже в середине 70-х годов Маканин приступает к выработке очень важного для его будущего творчества приема «уничтожения» развязки — за счет ее перенесения в середину повествования, а то и в его начало (прием этот в полной мере реализовался в структуре таких произведений, как «Антилидер», «Гражданин убегающий», «Предтеча»). Именно через отрицание развязки выходит Маканин к своему идеалу — к воссозданию образа незавершенной жизни.
К поискам анекдотического у Маканина, конечно же, подталкивают его собственные теоретические разработки понятия «конфузная ситуация», где в слове «конфуз» критикам слышится нечто, намекающее на анекдот, синонимичное тому, что обычно определяется словосочетаниями «застигнуть врасплох», «поймать с поличным». Но ведь анекдоту важно не столько «застигнуть врасплох» (это всего лишь экспозиция), сколько разрешение ситуации, выход из нее. Для Маканина, напротив, ситуация конфуза значима сама по себе — ситуация обнажения, оголения, очищения сути (воистину слово «конфуз» — очень точное «маканинское» слово!).
Сложнее отношение писателя к притче, которой он — повторим вслед за Н. Ивановой — «прослаивает… всю свою прозу»25: притчей открывается рассказ «Ключарев и Алимушкин», она организует повествовательное пространство в «Пустынном месте», вторгается в роман «Портрет и вокруг», служит камертоном «Голосов», угадывается в истории копателя из «Утраты». Но если Н. Иванова склонна к сближению притчи с анекдотом, то, на наш взгляд, эти жанровые структуры кардинально различны. Притча строится не на перевертывании, выворачивании наизнанку сформулированной в начале повествования ситуации, а на ее аллегорическом удвоении, переосмыслении с полным сохранением как логики основного повествования, так и однажды избранного ракурса восприятия. «В притче… — по определению самого Маканина, — удивляет не финал, не вывод, всегда лишний (ср. с анекдотом! — С. П., В. П.), и не мораль. Важно пустынное место и некая расстановка сил и чувств в вакуумной той пустоте. Побыть очищенным — для этого и пишутся притчи». Иными словами, притча привлекает Маканина, как максимально обнаженная сюжетная конструкция.
25 «Литературная учеба», 1981, N 1, с. 122. Н. Иванова говорит об анекдоте как «городском варианте притчи». О притчевом характере повестей и рассказов Маканина пишет также А. Бочаров (см. его книгу «Чем жива литература?..», с. 225 и след.).
И все же после «Голосов» писатель все более от притчи отходит: ни «Где сходилось небо с холмами», ни «Предтеча» (эпизод-притча с крысами в лабиринте — всего лишь ложная подсказка, как верно заметила И. Роднянская), ни «Человек свиты», ни «Антилидер», ни «Гражданин убегающий», ни «Один и одна» явно несводимы к притче. Маканин 80-х годов отказывается от притчи как жанро- и сюжетообразующего принципа и уводит иносказание в деталь, в «микросюжет» (с рассмотрения символико-иносказательных мотивов и образов маканинской прозы мы, собственно, и начали нашу статью). Так «бытовая» проза Маканина становится не аллегорически-бытовой, а подлинно поэтической; его лиризм, который давно ощущают в «жестком» авторе доброжелательные критики (тот же А. Бочаров), находит себе надежное прибежище, органическую форму, не имеющую ничего общего с псевдоромантической патетикой.
Похоже на то, что в «Голосах» Маканин исчерпал возможности жанра притчи, ощутил его границы, осознал как литературный стереотип. Ведь «пустынное место» притчи локально, замкнуто в себе, ему не дано стать «расширяющимся пространством»; в свою очередь герой притчи — анонимный некто, а вовсе не «живой». В тех же «Голосах» Маканин приступает к разрушению притчи, к «деметафоризации» ее, возвращению к «изначальной почве» — к истории, легенде, житию (см. «притчу» о барабане, трансформирующуюся в иронически поданное этиологическое предание). Хотя оказывается, что и эти жанры с их ориентацией на канонические образы (грешника, святого и т. д.) тоже не соответствуют цели художественного поиска писателя — открытию такой структуры, которая объединила бы обнаженность конструкции с пластикой образа, позволяла бы увидеть «копателя» — «живым», а не вознесенным за терпение двумя ангелами.
Расслоение материально-телесного и умозрительного, фабулы и иносказания в притче как раз нацелено на то, чтобы сделать изначально ситуацию неузнаваемой, загадочной, а затем свести ее к обнаженно-очевидному поучению. Уже в «Пустынном месте» Маканин как бы выворачивает притчу наизнанку — в притче для него важнее другое: все, что в ней происходит, «узнаваемо» по ощущению — «знакомо и сродни». А вот мысль, урок, извлекаемый из этой «сродственности», может быть каким угодно — в зависимости от воли и духовного опыта читателя. Маканин как раз и преследует цель заставить читателя самоотождествляться с героем. Путь к такому чаемому самоотождествлению может быть только один — за счет отказа писателя от собственной авторитарности (в этой связи нам представляется безусловно верным рассуждение М. Липовецкого о максимальной сближенности голоса автора и голоса героя как стилеобразующем факторе маканинской прозы). К тому же вспомнилось и долго лелеемое Маканиным — от рассказа «Про одного старика» до «Голосов» — «Не судия»26. «Не судия» — не значит ли, что для писателя нет границы между добром и злом? И. Роднянская прекрасно показала: такая граница существует, но провести ее Маканин предлагает самому читателю, не забывая при этом свое собственное — по отношению к ней — местоположение. Так, уже на уровне соотношения «читатель — текст» реализуется памятная по повести «Утрата» тема совпадения «меня с ними».
Включение в художественное целое автора и читателя или (что составляет другую сторону того же процесса) выход героя за границы творимого о нем повествования взламывают плоскость литературного текста, открывают его в новое измерение — в жизнь, которая для нас с вами длится, покуда мы читаем Маканина, а для Маканина — пока стоят два мальчика на речной переправе и кружится пыль по дороге, уводящей Ключарева в детство. Проза Маканина, не просто «авторская проза», на чем настаивает Р. Киреев27, а «авторско-читательская»: кристаллизующим началом в ней является не столько личность автора, сколько личность читателя, его, читателя, способность к самоотождествлению, его настроенность на диалог, хотя со школы он приучен к иной роли — по меньшей мере народного заседателя.
В свете сказанного объяснимо и двойственное отношение Маканина к еще одному, очень важному для него жанру — жанру портрета.
26 Весьма примечательное совпадение, побуждающее задуматься об общем контексте современных литературных исканий: старый учитель Николай Степанович Ечевин из тендряковской повести «Шестьдесят свечей», пережив «огромную» минуту («И сейчас я не обычным зрением, а каким-то особым проницанием воспринял лицо кабинета. Я увидел не просто широкий полированный стол, телефон на нем, мягкие кресла по углам, я узрел не наглядные, грубо материальные вещи, а скорей то, как эти вещи связаны между собой. Увидел связи, а не предметы, не лицо окружающего мира, а его освобожденное внутреннее выражение — душу сущего»), впервые ставит под сомнение собственное право быть безгрешным судией, разносить жизнь в систему готовых правил и установлений, снабжать учеников однозначными ответами на мучащие их вопросы.
27 См.: «Литературная газета», 1 апреля 1987 года.