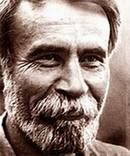3
Мы решили не начинать с хронотопа, но все равно вышли к нему. «Огромная» минута и «вдруг расширившееся» пространство (они неразделимы в прозе писателя) — вот то истинное, к чему устремлен человек у Маканина17. Однако путь к ним прегражден глухой, непроницаемой толщей «бытия-времени», которое нужно очистить (ведь «в очищенности бытия слышнее всякая боль»), сделать прозрачным, сквозь которое нужно проложить ход — тоннель, подобный тому, что прокладывает червь «меж ребер… остова».
«Человек — червь» — сюжетная реализация этой древнейшей метафоры объединяет такие разные произведения, как «Голоса» и «Утрата». «…Я почувствовал, что обрел гибкое длинное тело, и если новое мое тело было теперь скользкое и холодное, то не беда… Я был червь, я был живое существо, а это уже немало», — сообщает герой притчи, входящей в книгу «Голоса», о своей посмертной метаморфозе. Точно «червь из осыпи» выбирается из-под валуна купец Пекалов на «нехоженый берег», и подобно червю же «извивается» на больничной койке герой-повествователь «Утраты». В погруженное в бред сознание больного «втискивается» прошлое, превращаясь в «огромную» — нескончаемую — минуту. Цель человека-червя — протиснуться к этой минуте, к свету через «узкий тоннель времени», обретя тем самым новое зрение и, быть может, новую — «загробную» — жизнь18.
17 Ср. у А. Бочарова, чрезмерно, на наш взгляд, обытовляющего прозу Маканина: «Такая система… тяготеет не к вечности и всемирности, не к эпохам и пространствам», а к времени и месту. «Есть ведь разница: пространство или место… где происходят разные житейские истории» («Чем жива литература?..», с. 213).
18 Ср. приводимые В. Топоровым примеры текстов, демонстрирующих переход из «внутреннего замкнутого» во «внешнее разомкнутое» пространство как знак «перехода через границу смерти к «новой» жизни» (В. Н. Топоров, Пространство и текст. — В кн.: «Текст; семантика и структура», М., 1983, с. 247, 248 и след.).
Так мы приближаемся к пониманию еще одного навязчиво-загадочного мотива прозы Маканина, который образует общий «куст» с мотивом «наготы», «развалин», «звездного неба». Имеется в виду мотив «копания», «подкопа», «колодца», «подвала», «тоннеля», «лабиринта» и т. п. Ведь копание — это как бы доведенный до предела процесс обнажения, разъятия, проникновения в недра: не случайно тот же эпизод со взрывом, подбросившим в воздух елочку и обнажившим землю, предваряет появление в повести «Гражданин убегающий» одного из последних маканинских «копателей» — семидесятилетнего старика Аполлинарьича.
«Аполлинарьич, возрасту вопреки, копал как остервенелый… Не один и не два раза старичок в трудах своих так увлекался, что Павлу Алексеевичу приходилось в темноте искать его по истошным крикам или даже вытаскивать из глубокого колодца, ибо зарывшийся в землю Аполлинарьич самостоятельно вылезти в ночной тьме уже не мог», — это ведь почти дословное повторение легенды об уходе в землю вслед за корнем другого старика — «предтечи» Якушкина19.
Жаль, что никто из критиков не попытался объяснить, зачем понадобилось Маканину отряжать «гражданина убегающего» Павла Алексеевича накануне его смерти в подручные копателя, идя при этом на рискованное самоповторение. Очень уж важен, очевидно, Маканину этот копатель, важно, что он старик, важно, что брезжущая на горизонте кончина Аполлинарьича и легендарная смерть Якушкина воспроизводят чаемый в «Голосах» образ ухода: «…надо отходить туда, сращиваясь и сливаясь воедино со всеми стариками… надо отходить, как отходят в траву, в небо, в землю (слова-тождества подчеркнуты нами. — С. П., В. П.), медленно растворяясь и теряя свое «я» во всех и во всем». И если принять во внимание предсмертный род занятий Павла Алексеевича, а также то, какую роль в прозе Маканина вообще играют «убеги», то не столь уж однозначно — как обличение донжуана-алиментщика — будет прочитываться и вся повесть о «гражданине убегающем». Помимо всего, нам видится в ней доведенная до гротескного самоотрицания ситуация «пустынного места»20, и «разрушитель» Павел Алексеевич предстанет тогда пародией на образ искателя мифической чистоты и «незалапанности».
19 В финале «Предтечи» происходит прямое отождествление «светлого неба» и «черноты земли», из чего следует, что закапывание в глубину и всматривание в небо — два противоположных по направлению (движение вниз и движение вверх), но тождественных по смыслу мотива.
20 Ср. в «Пустынном месте»: «Очищения в побеге нет — есть только тяга, как бы притяжение длительное к пустынному месту; и ни граммом более. Тяга, которая исчерпывается самим же побегом…».
Но во всей своей полноте мотив «копания» воплощен, конечно же, в повести «Утрата», в той ее части, что включает в себя легенду о безумном копателе подземного хода купце Пекалове и перемежающие эту легенду больничные видения автора. В них он выступает как двойник Пекалова, как «человек копающий», зарывающийся «в глубь слоистого пирога времени» — по направлению к детству, к истокам, туда, где пространство очищеннее.
Таким образом, «огромная» минута и «расширившееся» пространство являются у Маканина «хронотопическими» условиями внутреннего, феноменологического видения, «видиняния», того, что в древности именовалось прозрением. И как то бывало в древности, провидцы у него тоже часто незрячи. Потому-то Маканин вводит в «Утрату» образы слепцов, слышащих истинное направление течения реки-бытия, людей, «живущих в утрате своей». Слепцы копают по наитию, повинуясь внутреннему голосу, подобно тому как «в утрате своей поет» и «человек творящий» из «Голосов». И тут оказывается, что мотив «утраты» тесно связан с мотивом «разрушения» в его позитивно-очистительной функции: состояние «утраты», сознание «утраты» сдирает с бытия кожуру быта, указует путь к «нехоженому берегу».