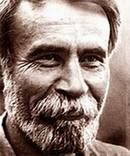2
Но начнем мы не с «изменения хронотопа» (иронически-бахтинианствующая формула из «Голосов», послужившая А. Бочарову названием для его главы о Маканине в книге «Чем жива литература?..»), не с сюжетно-композиционного своеобразия произведений писателя и даже не с принципов построения образа героя, а с того же эпизода, с которого начинает И. Роднянская, — с эпизода из «Гражданина убегающего», где взрывы геологов-разведчиков «обнажают» и «раздевают» землю. Этот эпизод, служащий И. Роднянской опорой в ее размышлениях о цене «малой живой жертвы», для нас важен, однако, в ином ракурсе. Первостепенное значение для нас имеет образ «обнаженной» и «раздетой» земли, вернее, присутствующий в нем мотив «наготы» (семантические варианты: «обнаженность», «оголенность», «разоблачение»…) — один из сквозных в прозе Маканина 80-х годов. В том же «Гражданине убегающем» «обнаженная земля» и летящая в небо елочка с «голыми корнями» предварены «нагим» (подчеркнуто в тексте повести. — С. П., В. П.) письмом, полученным Павлом Алексеевичем от «женщины-маляра с Нижнего плато»; соснами с «беловатыми, выступающими наружу корнями», под которыми Костюков расстается с очередной попутчицей по жизни; камнями на перекатах, «выступающими из воды» («некую интимность, даже и стыдливость» быстрых поворотов ручьев и речек — все ту же обнаженность — ощущал Павел Алексеевич в этих камнях)…
Еще больше «обнажений» в «Голосах»: тут и Шустиков, внушающий сослуживцам неловкость своими «обнаженными ответами» на их ритуально-вежливые вопросы, тут и завершающий книгу эпизод, где, созерцая моющихся в бане стариков, автор мысленно воскрешает весь процесс зарождения и развития жизни на земле, воскрешает, идя от итога к началу — к планете «из голого камня… без кислорода, без суеты множащихся клеток и уж, конечно, без единого на ветру листка».
Старики из «Голосов», продефилировав перед автором, уходят «в воду, в пар». В свою очередь каждый новый приступ ненависти к «выскочке» у «антилидера» Толи Куренкова начинается с «банной минуты»: «он стоял, голый и худой, весь уменьшившийся, и ныл, жалобно просил потереть спину…». Впрочем, всех маканинских «обнажений» не перечислить: это и «больничные» эпизоды «Предтечи», и сцена купания нагих слепцов в «Утрате», и предстояние «человека свиты» Мити Родионцева — в пижаме-»перед богом», и сближение героев «Отдушины», их «постепенное узнавание», похожее на «снятие шелухи и постепенное появление белого тела луковицы», и «грехопадение» композитора Башилова, начинающееся с того, что еще мальчиком «он выхватывал глубинную народную мелодию… брал и выпячивал, вынимал ее нутро на обозрение всем»…
Вот и в недавно опубликованной повести «Один и одна» «обнаженность» — с первых страниц. Действие начинается описанием празднества в мастерской скульптора Н., расположенной в подвале жилого дома: кое-где проступали «нагие бетонные плиты и крюки арматуры», повсюду — обнаженные гипсовые фигуры, к которым жался отвыкший от многолюдства Геннадий Павлович Голощеков (фамилия героя значима!). Далее, по ходу развертывания сюжета этой «бессюжетной» повести, Нинели Николаевне снится «нагой сон», в котором она, «нагая… движется по какому-то лабиринту комнат и квартир». «…Не спеши с этим убогим, однозначным Фрейдом!» — могли бы мы вместе с Нинелью Николаевной возразить тем, кто смутится выставлением напоказ «нагих» фраз Маканина. Дело тут действительно не во Фрейде, а совсем в ином: в стремлении Маканина постичь скрытый смысл бытия, обнажить «жесткий каркас конструкции», снять, сдернуть с окружающего покровы всего поверхностно-видимого чувственно-иллюзорного, прорваться сквозь то, что видится, к тому, что «видиняет«: предсмертное слово Голощекова, которое — при всей своей кажущейся невнятности — накрепко застряло в памяти повествователя, дразнит его и манит какой-то новой глубиной проникновения в таинство «жизнесмерти» (думается, этот неологизм Ю. Трифонова здесь вполне уместен).
Конечно же, любой жест, любое состояние, любое намерение чреваты и в жизни, и в литературе, сориентированной не на жизнеподобие, а на жизнеконструирование, на выявление логики действительного развития, противоположными результатами. Так и обнажение. Не составляет труда подобрать в маканинских произведениях примеры того, как, на первый план выступает его разрушительно-деструктивная, негативная сторона: обнажение неизбежно связано с уничтожением, нарушением целостности мира, замкнутой на самой себе. Есть в обнаженном мире какая-то беззащитная уязвимость, как в моющемся перед смертью Толе Куренкове, как во взлетающей в небо елочке… Но все же главное ударение сделано на другом — на том, что, не сняв скорлупу, не доберешься до ядра, не познаешь сути, не обнаружишь связи начала и конца, детства и старости, ройности и одиночества, голубого и красного…
Конструктивно-познавательная сторона маканинских «обнажений» получит продолжение и развитие в другом, сопряженном с ними, мотиве — «руин», «развалин». «Руины» ведь тоже обнажение, обнаружение костяка исчезнувшей жизни: «Дома снесены, но каменные их фундаменты… торчат из земли… все двадцать пять фундаментов домов сейчас как план, как вид сверху: можно видеть дом, и внутри дома печь… и возле хаты хлев, и поодаль погреб — все в наличии» («Утрата»).
Впрочем, конструктивная функция мотива «развалин» выявится у Маканина не сразу. Так, в финале «Повести о Старом Поселке» руины предстают еще в традиционно-романтической, ностальгической подсветке. Элегически-»воспоминательное» чувство охватывает и героя романа «Портрет и вокруг», когда он вступает под своды бывшего Дома кино, попадает в пустоту и тишину залов, в которых прежде были шум, суета, нервозность вечного праздника жизни. Игорь ощущает себя будто бы «на развалинах… Среди руин, хотя руин и не было».
Но уже в этом эпизоде ощутим и некий смысловой сдвиг, предваряющий зрелого Маканина: на «развалинах» старого Дома кино героя посещают не одни только лирические воспоминания о былом — он переживает новую расстановку «сил и чувств», попадает как бы в «вакуумную пустоту», отрешающую человека от самого себя, способствующую его совмещению с другими. В образе «развалин» для Маканина 80-х годов важно именно соединение «пустынности», «безлюдности», «простора» — всего того, что освобождает, раскрепощает от тесноты общежитийного места, — и вознесенности над временем (оно движется здесь как бы вспять, возвращается к началу начал). На развалинах слышнее «голоса предков», мощнее выбросы той надличностной, коллективной памяти, что ушла куда-то в подсознание, в миф, в легенду и невозродима в лирических ламентациях и элегических всхлипах.
Герой лирической прозы 60 — 70-х годов приходил на романтические развалины, чтобы попытаться восстановить целостность своего индивидуального, неповторимого жизненного опыта, чтобы совместить свое нынешнее «я» с «я» …летней давности, чтобы оплакать исчезнувший мир как часть самого себя. Это действо Маканин не без иронии называет в «Утрате» «заигрыванием с вечностью». Еще энергичнее сказано об этом в «Голосах», в том месте, где речь идет о расхожих литературных штампах: «Две-три мрачных, заигрывающих с вечностью фразы, последний выхлоп элегической ноты — рассказ готов». Маканин 80-х годов всего этого органически не приемлет…
Велик соблазн прочитать вторую половину «Утраты» в том же ракурсе, в каком прочитывалось окончание «Повести о Старом Поселке». Там Ключарев — постоянный персонале прозы Маканина 70-х годов — бродил по развалинам Старого Поселка и каждую минуту ловил «себя на том, что никак не может совместиться с этим вымершим местом». И герой «Утраты», поддерживая в себе при помощи возлияний (характерная для Маканина «снижающая» подробность) «восторг и некое обострение чувств», пытается вступить с прошлым в эмоциональный контакт, услышать в «душе отзвук», «отклик», но — «отзвука нет». Выходит, перед нами всего лишь вариация ранее заявленной темы? Так, во всяком случае, прочитывает «Утрату» Р. Киреев: «…тема утраты в этом сюжете, не шибко оригинальном, воспринимается не как идея, не как философская категория, а как настроение»16.
16 «Литературная газета», 1 апреля 1987 года.
С нашей точки зрения, Р. Киреев не заметил того, что и в эпизоде возвращения на родные развалины, и в теме «утраты», воплощенной в образе этих развалин, наличествует не одно только «настроение», что маканинская «утрата» — это и «философская категория». Ведь в контрапункте с темой «отзвука нет» в повести прозвучит и другая: «снос и вымор не удалили, а приблизили его» к тем, кто жил на этой земле. Бродя по развалинам, «он не вспоминает, он живет«, «полностью с ними совпадает» — с ушедшими поколениями, с далекими и близкими предками, с собственным своим детством «в чистом виде», являющимся ему, словно выхваченный из потока времени стоп-кадр: «Уже сорок лет стоит здесь эта пыль и стоят эти два щурящихся мальчика». А начинается все именно с отрешения от своей точки зрения, от своего «я», со смены ракурса: «Он отыскивает некое совпадение, которое его волнует, потому что сотни лет назад в точности так стояли и смотрели они, те, кто выбирал это место. Тут даже и ручаться можно, что они видели то самое, что и он…»
Перевоплощение приезжего человека в «загробника» достигает своей кульминации в эпизоде распахнувшегося над его головой звездного неба: «Темно. Ночь. Звезды зажглись — именно это, ночь и звезды, они тоже видели. Тут уж нет сомнений, это не менялось. И он может смело сказать, что вот сейчас в ночной темноте он по ощущению полностью с ними совпадает: все же нашел».
Здесь ведь что важно: опять — совпадение. Эти звезды так видели и они. Это уже не просто настроение, неизменно связанное с отсчетом от себя, как, например, в давней повести Маканина «Солдат и солдатка», где мечущийся между городом и деревней бывший фронтовик Иван Семенович под звездным небом приближался к пониманию конечности собственного существования: «Иван Семенович сморгнул сладкую, добрую слезу и сказал вполголоса: — Сорок пять…» «Загробник», глядя на звезды глазами предков, переживает не настроение, а озарение — состояние, сходное с тем, что переживает приговоренный к казни «бездельник» из новеллы-притчи, входящей в «Голоса»: «Он… услышал голос свыше… Была луна. Воздушное пространство вдруг как бы расширилось, минута сделалась огромной, значительной, и на душе приговоренного стало легко и освобожденно». Что «сорок пять», что «за сорок» и любой другой срок человеческой жизни на фоне этой «огромной» минуты!
То же состояние легкости и освобождения испытывает в финале повести «Где сходилось небо с холмами» композитор Башилов, сидящий на «полуупавшей скамье» (вновь — «развалины»!) под ясным светом месяца рядом с юродивым Васиком. Та же «огромная» минута — «минута, когда темноту и тишину вдруг прорезал высокий чистый голос ребенка», минута приобщения, нет, не к вечности, а к вечно длящемуся настоящему, в котором смыкаются начало и конец, — венчает повесть (к сожалению, критика, приученная лирической прозой 60 — 70-х годов отыскивать везде «настроения», а не надличностную конкретику бытия, оценила этот финал как «сентиментальный», «условный» и т. д.).
Очевидно, что звездное или лунное небо играет в прозе Маканина 80-х годов роль, во многом сходную с ролью развалин: и то и другое стимулирует максимальную освобожденность человека от власти времени, максимальную очищенность его сознания, приуготовляющую внутренний слух к восприятию «голосов».