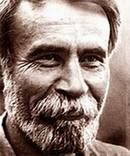Майя Кучерская. «Ведомости», сентябрь 2011
Все последние романы Владимира Маканина становились предметом бурных дискуссий. Маканин действительно пишет на больные темы: тайные механизмы чеченской войны, сексуально озабоченная старость, противостоящая энтропии, ценности советского андеграунда. Новый, только что вышедший в свет роман «Две сестры и Кандинский» (М.: Эксмо, 2011), представленный автором на Московской книжной ярмарке, тоже о больном. Это, внешне очень похожее на пьесу, повествование о стукачестве и стукачах. С доносительством так или иначе связаны судьбы всех героев романа. Старый кагэбэшный волк Батя — профессиональный осведомитель, под конец жизни покаявшийся и неожиданно получивший прощение от всех своих жертв. Покойный отец главных героинь, «двух сестер», — диссидент, который отсидел, тоже по доносу. Другой персонаж — молодой политик демократического толка, бежит и стучит просто из осторожности..
— В первых откликах на роман уже появились намеки на то, что, возможно, Маканин написал о стукачах неслучайно, а в тексте присутствуют автобиографические мотивы. Предположение смешное, но, наверное, просто продиктованное растерянностью, естественным вопросом: почему именно об этом именно сейчас?
— Наш читатель чудо, он рисует автора куда лучше и размашистее, чем автор рисует его. Я уже бывал в их, читательских, глазах стариканом, который по ночам на небогатых дачах подкарауливает первый крепкий сон молодых женщин. А симпатяга майор, скрытно и противозаконно продающий бензин сепаратистам, — и кем он приходится автору?.. Что следующее?.. Однако вершиной личного читательского интереса и спроса был, конечно, роман «Андеграунд». Хорошо помню одну из многих, милую и добрую, женщину, прочитавшую мой роман и спросившую, убивал ли я… Мы шли к метро. Вечером. Она долго молчала, потом тронула за рукав и заверила, что она все-все понимает и ведь она никому не передаст… никогда и никому… ни одному человеку… это правда?.. скажи… кивни головой.
— Не спрашиваю, кивнули ли вы. Но спрашиваю по-прежнему о «Двух сестрах»: почему вам интересно было исследовать феномен стукачества?
— Роман «Две сестры и Кандинский» не о стукачестве, а о неловком его прощении. Как знать, вдруг у нас затеется, а там и разгорится дискуссия о том, кто кем был до 17-го года. Будут спрашивать. Каждый из нас должен быть начеку. Так что бельишко бы нам успеть постирать. Шутка, конечно… Но, возможно, актуальная… Как ответил в конце романа Батя — «работа такая».
— Все, кто попал в тюрьму по доносу Бати, в конце концов его простили. Но это же невозможно, все простить никак не могли. Вы намеренно допускаете эту условность?
— Это не условность. Это та правда, которая сильнее дряхлеющего на наших глазах правдоподобия. Я не знал ни одного Монте-Кристо, который вернулся бы и мстил кому-то из своих знакомых за годы и годы лагерной баланды. Разумеется, человек не сможет, не сумеет простить, если донос случился вчера. Но если прошло десять-пятнадцать лет, никуда он не денется, простит. Увы, такова наша жизнь.Он же сам первый увидит, как за эти десять-пятнадцать лет выравниваются их судьбы — его и стукача, как становятся схожи их жизни под прессом сотен и сотен других покаянных бед.
— Подождите, но ваш герой, ваш Батя разве покаялся?
— Покаяние — это что? Процесс длиной в годы? Или это добрые дела и навеки плохие сны по ночам? Холодный пот на лбу?.. Что там еще?.. Истерики?.. Давайте спросим у Бати. Или же покаяние — это мгновенное перестраивание себя? С публичным сжиганием партбилета? Сжег — и вперед! Кто-то даже [говорят] сжигал партбилет дважды. Оба раза прилюдно.
— У романа необычная форма. Он напоминает пьесу. Недавно один читатель даже пошутил: все ясно, хотел написать пьесу — не получилось, вот и переделал в роман. Но дело, очевидно, обстояло иначе?
— Для меня важным было ответить на два сросшихся вопроса: что есть стукач? И что есть прощение? И тогда каким образом «палач обнимется с жертвой»? Нужен был долгий разговор. Разговор, как в романах Достоевского, когда реплика легко занимает полную страницу. Но так не пишется, сегодня разговор должен быть организован иначе. Поэтому, дисциплинируя текст, я соблюл формальные особенности пьесы — единство места (в андеграундном полуподвале дома) и единство действия (всё вроде бы сосредоточено вокруг «выйти замуж женщине»). Конечно, и единство времени — дважды вся суета начинается утром, а заканчивается вечером.
— «Две сестры и Кандинский» — открытая рифма к «Трем сестрам» Чехова. Но у Чехова темы стукачества нет, почему вы вставили действие именно в чеховскую раму?
— По-чеховски организованное пространство — единственное из [сложных] драматургических пространств, достаточно хорошо понимаемых нашим читателем-зрителем. Ведь сюжет стукачества не хитер. Убийцу ребенка как простить?.. Но стукачество — не убийство. Грех вроде бы смешной, легко прощаемый. Чеховская тональность как раз и помогает оценить пограничную тему и разнобой нравственных полутонов. Это не Иван Карамазов, когда он рассказывает брату Алеше, как помещик затравил мальчика собаками и в упор спрашивает — ну что, обнимется палач с жертвой?.. Чехов для начала разговора набирает небольшую высоту, а уж после спрашивает, задаваясь заведомо вечными, библейскими вопросами. И возникает позиция — возникает чеховский неотменяемый ракурс.
— Критик Наталья Иванова написала в своей недавней статье, что для вас, как для писателя, печатавшегося в советские годы, тема андеграунда — «болевая точка», это действительно так?
— Наталья права. Писатель может помочь с публикацией, но не может помочь с судьбой. И болевой момент тут как раз в том, что ты, пишущий и публикующийся, острее других чувствуешь жесткую позицию непубликующегося собрата.
— Хорошо помню времена, когда Маканина дружно читали все НИИ. Это было в 1980-е годы, когда вы стали голосом огромного слоя технической интеллигенции. Так было тогда, кто ваши читатели сейчас?
— Сейчас трудно сказать. Часть читателей удерживается прежних — их процентов десять-пятнадцать. Но кто еще — я и сам не знаю. Те, кто с постоянством покупает мои книги в магазине.
— В вашем писательском самоощущении что-то изменилось, когда наступила эпоха гласности?
— Я любил отшучиваться: «Писал, мол, неплохо Пушкин при крепостном праве». Но в обход шуток были свои писательские поиски, свои проблемы, достаточно глубокие, чтобы их обсуждать как в подцензурное, так и в неустойчивое гласное время. Процитирую самого себя: «Задачу надо решать, а с проблемой надо жить».
— Вы хотите сказать, что с началом перестройки вы, как писатель, не ощутили никаких перемен?
— Но-но-но!.. Разумеется ощутил. Но в основном ощутил, как говорится, по жизни. Книги, поездки, а с ними музыка, живопись… Много всего… Однако на уровне текстов — дело, как всегда, сложнее.
— По-моему, изменение все-таки произошло. В 1990-е, 2000-е годы вы в своей прозе стали гораздо больше, чем прежде, касаться общественно-политических вопросов, разве нет?
— Да. Но, возможно, это связано с переходом на крупный жанр. В романах не избежать расширения темы. Хорошо помню, вместе с увяданием толстых журналов возникла метафизическая реакция — предощущение большой книги. Еще до того, когда именно так стала называться известная премия. Еще до того, как ТВ стало травить обленившихся читателей сериалами. Почему-то завораживал текст, подчиненный простому правилу — 300-400 страниц имя и фамилия героя не должны меняться. Герой был и остается у нас на виду. Жену и работу герой может сменить. Хоть трижды. Но чтоб сам — никуда.
— В «Двух сестрах» обсуждается и роль интеллигенции в обществе. Если отвлечься от романа, что происходит с интеллигенцией сегодня?
— Интеллигенция есть, и она живуча, но она знает свое место. Это давно уже не цвет нации. Интеллект там и тут скорее терпят, чем ценят. Интеллигенцию вытаптывает и вытесняет средний класс. А мы?.. А мы, как сейчас шутят, полусредний. Такая нам досталась доля. Богатыри не мы.
— Большая часть современных авторов, даже самых лучших, с трудом придумывает. Кто-то описывает себя, кто-то своих друзей или жен. Вы живете за городом, на даче. На работу не ходите. Откуда черпаете сюжеты? У вас просто такое богатое воображение?
— Это не воображение. (Смеется.) Это богатство внутреннее…
— Честный ответ.
— В моей повести «Голоса» есть образ падающих листьев — какие взять себе, какие пусть опадут. Листья сыплются, но их, по счастью, много. Ты выбираешь три-четыре, но, пока ты к ним присматриваешься, пока отберешь и обработаешь, остальное опало, уже на земле. У меня нет проблемы с поиском сюжета или темы, только проблема отбора. Я не успеваю справиться с тем, что имею. Лежат эти листья, однако ты поднимаешь их, пробуешь на вес — слишком легкий, бросаешь. Берешь другой, вот тут оно потяжелее — можно оставить. Человек — кладбище опавших, нереализованных листьев. Они пожухли, они уже под ногами, а все еще зовут, манят к себе. Богатство, про которое я сказал, как у позапрошлого крестьянина в позапрошлой его памяти. Там навечно есть старый дом и двор с натоптанным спуском к речке — богатство, которое есть у каждого из нас и с которым, если сильно не дергаться, можно жить в ладу.
— Из того, что происходит за окном, в стране, мире, что вас особенно задевает?
— Да всё. Меня потрясла, к примеру, смерть этой молодой талантливой певички из Британии. Молодые талантливые умирают, кончают с собой, чтобы лишний раз плюнуть в нас, стариков. Я подумал, что какая-то особого рода разменная вина лежит на всех, кто долго живет. Это мы, пожившие свое, сделали мир таким, что молодежь не хочет в нем жить.
— При чем тут старшее поколение? Это наркотики!
— Но почему она за них взялась?.. Русские могут по крайней мере утешать себя тем, что продолжительность жизни у нас меньше, мы не так долго живем — и нашей вины тоже, возможно, несколько меньше.
Источник: http://www.vedomosti.ru