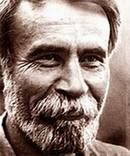Владимир Козлов. Журнал «Эксперт», декабрь 2008
Журнал «Знамя» в августовском и сентябрьском номерах опубликовал роман Владимира Маканина «Асан» (читайте в этом номере рецензию). Почти одновременно роман вышел в издательстве «Эксмо». Эту книгу даже сейчас, когда она еще не прочитана большинством, хочется назвать одной из главных в текущем десятилетии. Не потому, что она написана на материале чеченской войны, — этого мало, а потому, что из этой войны извлекается опыт — и это не только опыт натуралистического насилия, которым были переполнены кадры военных корреспондентов и которым питались написанные на этом материале «человеческие документы». У Маканина это еще и опыт мощных характеров, сформированных войной, верно найденных ситуаций, раскрывающих героев.
Маканин появился в литературе в конце 60-х пишущим много и охотно. Он писатель в некотором смысле хтонический: находит в человеке первобытное, довременное — или как минимум досовременное — начало, проявляющееся здесь и сейчас. И эта точка зрения разбивает стереотипные представления о друзьях и врагах, все становится предельно конкретно и в то же время тонко. Условный враг не всегда враг. Ситуация определяет, стрелять или договариваться. Маканинские герои очень восприимчивы к нюансам. Удивительно, но эта, казалось бы, наиболее примитивная точка дочеловеческого зрения у Маканина позволяет увидеть положение вещей в масштабе, не уступающем толстовскому. Она помещает в сферу сил и ценностей, где только и способны рождаться поступки.
Не удивительно, что «Асан» стал одним из главных литературных событий уходящего года. О романе, о Чечне, о смысле литературы «Эксперт» поговорил с Владимиром Маканиным.
«Мысль личная» и диалог культур
— Владимир Семенович, долго вы собирали материал для «Асана»?
— Нет. Меня уже несколько раз спрашивали: мол, откуда ты все это знаешь? На самом деле все всё это знают. Просто знание находится в нас в распыленном состоянии. Тут мы слышали про Дудаева, там прочитали про похищенную журналистку. Все дело в упорном желании это знание конденсировать. Как только начинаешь это делать, знание со всех сторон слетается. Пылинка к пылинке! И материала оказывается очень много.
Я практически ничего не собирал. Делал некоторые уточнения по поводу вооружения, характеристик оружия. Прорисовывал отдельные моменты. Например, чтобы вынести после боя тяжелых раненых, нужно много рук. Каждый раненый — это два здоровых солдата. А кому тогда воевать? Поэтому раненых часто оставляли, пользуясь тем, что везде русский язык, приплачивали чеченцам-крестьянам или грозили: мол, вернемся, и, если с ранеными что случится, мы деревню спалим. Эта практика использовалась. Раненые оставались, их боевикам не выдавали, но превращались в рабов. Я раздобыл как-то ценник: сколько стоил автомат, женщина, пленный и так далее. Это, конечно, подвижные цены. И много другого узнается… Даже по телевизионным репортажам большинство зрителей знать не знает, как и с какой опаской федеральные колонны ходили через ущелья.
— Но у вас есть детальные описания боев, когда колонны оказываются запертыми в ущельях…
— Ну, это из разговоров участников. Я побывал в Моздоке — это такой перевалочный пункт той войны. Там есть Чкаловский аэродром, где герои — Жилин и Костылин — находятся перед самым началом второй чеченской войны. Там было очень много людей, которые занимались перевалкой грузов. Но я не ценю журналистское вынюхивание. Потому что репортерский глаз испорчен — оплаченным обратным билетом домой. Я где-то уже говорил, что я не сидел в бункере, не просил показать мне чеченского пленного, не просил пострелять из гранатомета, я не, не и не… Зато я не приобрел и вот этого репортерского взгляда. Просто со мной рядом случайно в кафе сидели три человека, и один другому бубнил, рассказывал то про колонну, то про провоз бензина, про некоего чеченца, который «обеспечит» часть горной дороги. Это не длилось долго. Ну десять минут их разговора, ну пятнадцать — и материал стал во мне сгущаться. Конденсироваться в некую «войну на дорогах».
— Обычно очень важно все-таки найти камертон, который становится центром притяжения материала. Что им стало — образ героя или образ Асана?
— Наш любимый Лев Николаевич говорил: «Я любил в войне мысль народную». А я, отталкиваясь от его великой мысли, любил в этой войне мысль личную. Герой может быть неотделим от народа, но при этом для меня главное в этом романе — его отдельная, личная жизнь, его душа, в которой хорошее и плохое сосуществуют без всякой конфронтации. Создание образа героя — главное, что мной двигало. Я видел таких людей, видел, как они живут, как они смотрят на колонну с бензином и говорят: в ней «три бочки — мои». Конечно, мне пришлось нарастить биографию — показать момент, когда герой открывает в себе это кровное собственничество. Когда все разбежались, а он остался на складе с бензином один на один с войной… И когда он переживает, переламывает свой страх в отношениях с Дудаевым. Когда в нем вдруг распрямляется железная личность: вот момент-воронка, проходя через которую герой становится другим — он уже никого не боится. А образ Асана — это лишь расширение образа героя. Перекличка через два тысячелетия. Таким, каким стал Жилин, если хотите, стал в свой час Александр Македонский. Жилин — маленький Македонский.
— Откуда взялась версия, что имя Асан произошло от имени Александра Македонского?
— Я ее придумал, конечно. Но есть известные факты, которые эту версию крепили, к примеру, следы Александра, оставшиеся на Кавказе. Имена Сандро, Искандер, Скандербек и другие — это всё варианты имени Македонского. Я просматривал пантеоны богов у различных народов — и там везде есть фигуры, близкие Асану. Так возникла сама идея Асана. Не все знают, что чеченцы были сначала христианами и что их православие, пришедшее из Грузии и основанное прежде всего на пении, обрядах, было достаточно деликатно по тем временам. Ислам со своими строгими, даже суровыми нравственными законами христианство там оттеснил. Но еще до великих религий Александр Македонский повлиял на горцев: загнав их в горы, он, собственно, и сделал их горцами. Факт истории в том, что Македонский, в отличие от многих других завоевателей, хотел перевоспитать покоренные народы, поскольку болел идеей объединения Запада и Востока. Тех, кто не подчинялся, он, разумеется, уничтожал. Вот эту его двуликость я воплотил и в двуликости-двурукости Асана. Одной рукой убивал, другой окультуривал. Македонский первым ввел в покоренных странах монету со своим изображением — это был первый пиар в мире! Вот способ окультуривания. Так родился образ Асана-Александра. В разные времена был разный масштаб. Когда культура принимает что-то чужое, она пытается в самой себе создать нечто похожее на это чужое. У меня стало складываться понимание, что все эти Александры, которые появлялись и исчезали на Кавказе, — это такой рассредоточенный Асан. И никуда от него не деться!
— То есть вам образ Асана нужен был для того, чтобы связать два народа исторической связью?
— Не только связать, но и саму связь пронаблюдать во времени. Для меня очевидно, что «асаноподобные» конструкции повторялись в отношениях России и Чечни (и не только Чечни) на всех уровнях — психологическом, материальном, государственном, религиозном и так далее. Во всяком случае, для меня эта модель ясна — она проявляется иногда на очень примитивном уровне. Например, в представлении о том, что чеченцы чуть что вынимают нож. Наши в подворотнях вынимают ножи, кстати, ничуть не хуже, но образ такой создан именно для чеченцев. Я вижу в Асане модель противостояния имперскости и локального народа, который, по большому счету, противостоять империи не может, но бороться будет всегда. При этом, чем мощнее давление цивилизации, тем сильнее сопротивление, которым, как получается, и жива культура всякого малого народа.
После безвременья
— Зачем вам нужно было вводить литературные фамилии Жилина и Костылина? Хотели сразу вписать героев в литературную традицию?
— Безусловно. Но тут же еще и фамилия — Жилин — игровая: он же не только жилистый, но и прижимистый. Ну и потом у Толстого: «Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин» — и этой интонацией все о нем сказано. Это позволило мне легко от него дистанцироваться, то принимать, а то и не принимать его точку зрения. В романе, например, есть фраза, что пока нет победителя, у войны нет лица. И заканчивается этот пассаж: «Во всяком случае, для нас, простых людей, это так». Ну я, разумеется, не разделяю точки зрения, что победитель определяет сущность окончившейся войны.
Это вообще проблема — какой голос принадлежит Жилину, много ли он знает. Я использовал прием, который называю «голосом за гробом». Представьте, герой от первого лица повествует: «И вот он выстрелил в меня, первым выстрелом попал в руку, а вторым убил. После моей смерти он забрал у меня жену — и они жили счастливо»… И так далее. Загробный, условный голос позволяет рассказывать в двух измерениях — и о том, что герой знает, и о том, чего он знать не может. Но я нигде не пытался объяснить, откуда повествователь все это узнал. Пусть этот загробный, условный голос предстает как рассказ души героя. Душа иногда говорит как живой человек, а иногда как всевидящее око.
— В романе есть моменты, когда повествование о герое ведется как бы со стороны. Особенно в начале.
— Да, повествователь начинает соотноситься с героем уже после фразы: «А мне на бензин Жилина не наплевать, потому что Жилин — это я». Но еще более тонкий ход в финале, где повествователь-«я» начинает уходить в третье лицо. Сначала «я» в скобках, а потом уходит совсем, потому что уже готовится финал и физическая смерть героя — ее нужно показать как бы со стороны.
— А я иначе это «я» в скобках понял. Герой же роль играет на переговорах. Его же именно чеченцы воспринимают как неуязвимого Асана — вот он и входит в амплуа. Для своих он не Асан — и потому беззащитен.
— Да, там есть и такая игра.
— Мне показалось, что в «Асане» вы нашли новый для себя тип героя. Если посмотреть ваши основные постсоветские вещи — «Андеграунд», «Испуг», там герои выключены из своего времени. А здесь впервые действующий герой — делающий современность. Вы искали такого героя?
— Это не моя заслуга и не моя вина. Обо мне один американский критик написал: мол, я чуть ли не единственный советский писатель, который не закончился с распадом СССР, а продолжил писать. Ну да, продолжить-то я продолжил. Но я, как и все, не избежал того периода, когда, казалось, порвалась «времен связующая нить». И поэтому, возможно, герой был… по необходимости излишне одинок.
— Но в «Андеграунде» вы уже попытались ввести новый типаж — бизнесмен, с пулевыми ранениями…
— Это была первая ласточка.
— Да, образ получился довольно ходульный, карикатурный.
— А вот не надо спешить отражать жизнь!.. Дело в том, что они — такие герои — тогда, когда они появились, карикатурами на самом деле и были. Они были зеркальными антиподами советского времени. Механически скрепленные «отрицанием». Это ощущалось как безвременье. В «Испуге» уже есть предощущение жизни, но герой в романе — старик. То есть жизнь вокруг него, быть может, начинается, но это не его жизнь. Герой «Асана» уже полностью внутри житейского процесса. В частности, внутри локальной войны.
— Я встречал ваше высказывание, что художника создает не столько стиль, сколько система образов…
— …которая и есть, на мой взгляд, стиль.
— Значит ли это, что следующим типажом должен стать действующий мирный человек?
— Пожалуй. Кто-то из американцев, прочитав «Асан», сказал: «Ну, ожили». Интересная реакция!
— А у вас нет ощущения, что русская литература вообще побаивается современности? Что она боится с ней работать? Что у нас неплохо дело обстоит с репортерской работой, но романов о главных исторических событиях постсоветской истории у нас всего ничего? В США по поводу 11 сентября быстро написали книги и сняли кино… Что правильнее, на ваш взгляд?
— Мне не кажется, что писателю надо торопиться с использованием событийного материала. Журналисты свое дело делают, и нет смысла с ними конкурировать. Другое дело, если некий реальный факт или событие совпадает с твоим внутренним настроем. Но, честно сказать, мне кажется более интересным и знаково более насыщенным текст, который возникает накануне — до события. Когда он возникает от предчувствия этого события.
Формула трагедии
— У вас есть свой стиль подачи героев. Кажется, что вы больше внимания уделяете их моторике, а не сознательному поведению, что вас больше интересует не просто их ум, а задний ум. Как вы для себя это проговариваете?
— У меня есть некоторые ноу-хау. Одно из них я впервые нашел в рассказе «Антилидер». У героя этого рассказа была черта характера — очень он не любил, когда кто-то выпячивал себя. Это очень русская черта, кстати. И там есть фраза, не помню ее точно, что-то вроде «только теперь, в последнюю минуту, он понял, с чем и для чего он пришел в жизнь». То есть человек перед смертью понимает, с чем он пришел, — и его жизнь предстает как трагедия.
Мотив трагедии как таковой — трагедии личности — для меня есть самое интересное, что существует в литературе, что движет литературу. Вот, например, кирпич, упавший на голову, — ну да, жалко, но это не трагедия. Рота солдат, павшая под шквальным огнем, — это огромное несчастье, но это не трагедия. Тут нет принижения человеческой смерти как таковой, но есть определенное различие. Трагедия — это когда человек гибнет через то, что он любит. Трагедийная смерть — это когда она разрывает человека изнутри. Античные классики увидели, что это сочетание любви и гибели в наибольшей степени раскрывает человека, — вот это и есть катарсис. Сочетание любви и гибели делает героя Эдипом, Гамлетом. Герой «Асана» любил в жизни всего две вещи — свое дело, то есть бензин, которым он торговал, и этих пацанов, которых он опекал. И сочетание этих двух составляющих его разорвало. Внешне это просто. Он ведь погиб по причине своей личности — потому и трагедия. Он погиб не от вражьей пули, а от себя. Вот это для меня главное в лепке образа — чтобы герой раскрылся во время своей гибели. Когда время начинает посекундно отбивать смысл его жизни. И когда этот смысл никого больше не касается. Это суть данной Богом личной неповторимости. Искусство вообще для того, чтобы раскрывать эту неповторимость.