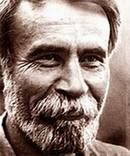Алена Бондарева. «Читаем вместе» февраль, 2007
С Владимиром Семеновичем Маканиным я познакомилась на презентации его последнего романа «Испуг» (2006). Там же договорились об интервью в его студии (квартира для встреч с журналистами, писателями, иностранными издателями). Он произвел на меня впечатление человека открытого, приятного. Что не очень вязалось с именем, данным критикой: «элитарный писатель».
Творчество Маканина русским читателям известно еще с 1965 г., когда в журнале «Москва» появилась его первая повесть «Прямая линия». За повесть «Стол, покрытый сукном и с графином посередине» (1993) Владимир Семенович получил Букера. За «Кавказского пленного» — Государственную премию РФ. Были и другие награды. Но больше всего нашумел роман «Андеграунд, или Герой нашего времени» (1999), в критике его окрестили знаковым. Книги Маканина переведены на многие языки. Раньше других писателем заинтересовались немцы и французы, а затем и другие (за рубежом у него вышло более 100 книг).
Сам Маканин охотно говорит про свое творчество, но не очень распространяется о частной жизни.
- Вы учились на механико-математическом факультете МГУ, потом написали «Прямую линию», поступили на Высшие сценарные курсы, что при ВГИКе, в итоге стали профессиональным писателем. Как это вышло?
- Вышло как-то незаметно. Почти само собой. Я родом из Орска, небольшого поселка под Орском. В нашем милом городишке всегда играли в шахматы, и я, пока рос, тоже играл, причем хорошо. Когда встал вопрос, куда поступать, выбрал математику. Потому что окружение предполагало, что раз он умеет рассчитывать ходы, значит, и с математикой справится. Действительно, я легко поступил, отлично учился. После работал. Но математика меня мало затронула, я остался холоден, шахматы, если уж на то пошло, были куда большей страстью. Потом написал повесть, переработал ее в сценарий и, поступив на Высшие сценарные курсы, думал, что буду заниматься кино. Однако кино при ближайшем рассмотрении оказалось структурой весьма мафиозной. Все зависело от того, с кем ты раскланиваешься, с кем общаешься, есть ли за тобой кто-то сильный. У меня никого не было, я был одинок. Так и промаялся год-полтора на киностудии, обивая пороги. По моему сценарию даже сняли фильм «Прямая линия», но снимали его с большим трудом — несколько раз закрывали, разгоняли группу. Опять же не было сильной «руки». И однажды я подумал: а почему я не могу быть сам и режиссером, и художником, и актером — то бишь писателем? Ведь пишущий человек находится в более выгодном положении, чем режиссер. Написал книгу, если ее ни сразу, ни после не напечатали — отложил в стол и взялся за другую. С кино обстоит иначе. Можно сделать один фильм, а потом десять лет добывать и просить денег на другой. Если тебя не ставят в план Мосфильма, ты — никто. Писатель же за эти десять лет напишет в стол еще десять повестей и как художник вырастет — вырастет над собой. У меня была долгая бессонная ночь, когда я решил, что больше не буду заниматься кино, сам все напишу и мне не нужны ни режиссер, ни актеры, ни художник, ни даже деньги для съемок.
- В большую литературу вы вошли сразу, с первой повестью. А до нее что-нибудь писали?
- Нет, это был мой дебют. Поскольку повесть перерабатывалась в сценарий, она много правилась, но когда вышла, произвела впечатление. Литература, конечно, тогда была не ах, да и повесть эта еще вполне юношеская. Но она была принята критикой, а я — в Союз писателей.
- Вы преподавали в Литературном институте, вели семинар прозы. Для чего?
- Нельзя сказать, что я преподавал, скорее, просто два года вел мастерскую, сразу оговорив, что мне дадут не больше 12 студентов, и время от времени я буду уезжать. Меня часто подменяли. Семинар прозы был мне тогда необходим как потребность высказаться, раскрыться, попытаться увидеть понимание в чужих глазах. В то время критика меня не жаловала. Я был абсолютным чемпионом по количеству отрицательных рецензий. Когда мы переезжали на другую квартиру, все эти рецензии (внешние и внутренние) сложили в одну пачку, и эта колонна была выше моего роста. Тогда-то я и почувствовал, что мне нужен отклик. Не такой, когда перебивают и критикуют. А когда можно выговориться. Ректор Литинститута как раз предложил мне вести мастерскую, и я согласился. Я в то время просто рассказывал — это мне дало многое. Не знаю, не уверен, много ли это дало моим студентам. Двое из них стали священниками.
- Что, по-вашему, представляет собой современная проза? Как вы относитесь к разговорам о том, что литература перестает существовать, мол, отсюда постмодернистские попытки маскировать все под документ, дневник, записки?
- Это подготовленный кризис. В нашей стране семьдесят лет эстетика была социальной. И сейчас еще живо поколение критиков, не способных (вне социальных оценок) отличить плохое от хорошего. Их критерии, как отстрелянные патроны. Когда критика не знает, что сказать, люди начинают читать все подряд, так случается кризис. Но это дело времени. Молодая литература взрослеет. Еще лет десять — и все устаканится. Чтение в отличие от кино более наполнено мыслью. Знак насыщеннее, чем зрительный ряд, богаче, чем звук. Знак не может исчезнуть, как не может исчезнуть значимость греческих мифов или Библии. Есть вещи, которые нельзя изобразить. И сколько бы ни экранизировали Евангелие, его текст останется, а экранизации будут непоправимо стареть.
- В своем романе «Один и одна» вы развенчиваете интеллигентский миф о шестидесятниках, ваши герои, так называемые «птенцы одной стаи», в конце жизни оказываются несостоявшимися людьми. С чем связан такой разворот сюжета?
- Дело давнее, но я помню, что уже тогда отчетливо виделось, что наши умные и замечательные либеральные люди имеют один недостаток: умение говорить взамен умения делать. Я предчувствовал, к чему ведет царивший тогда разговорный захлеб. Мое предостережение оправдалось. В «Андеграунде» есть герой Двориков, он — продолжение этой темы уже в наши дни.
- Книга «Один и одна» вызвала моментальную реакцию критиков. Вам нравится будоражить своих читателей?
- Никогда не думаю о том, чтобы будоражить. Критика со временем признала этот роман. Я сам человек либеральный, но своим спуска не даю, я безжалостен к недостаткам российского интеллигента.
- Как вы обычно работаете?
-Просто сижу и пишу, мне все равно — на машинке, компьютере или пером. Важен сам контакт с бумагой. Ожидаю желания писать, как острого чувства голода. Когда-то пробовал писать каждый день, но стало скучно. С тех пор пишу только в охотку. С удовольствием расслабляюсь — зато снова работаю энергично и много.
- Вы представляете своего читателя?
- Нет. Считается, что я пишу элитарную, интеллектуальную прозу. Но думаю, так говорится только для того, чтобы как-то классифицировать, помочь людям разобраться кто есть кто.
- Когда садитесь за письменный стол, то пишете для кого-то?
- Нет, в первую очередь для себя. Я счастливый человек. У меня много замыслов, сюжетов, я обрабатываю примерно пять процентов из того, что во мне рождается. У меня нет ожидания, нет мук. Пока я работаю с этими пятью процентами, остальные 95 тускнеют и теряются. Это как опавшие листья, они уже никчемны, но к следующему году появляются новые. Все дело в выборе темы, на первом этапе замыслы кажутся одинаковыми, но, копнув глубже, понимаешь, есть ли там вес. Когда я ощущаю тяжесть темы, тогда выбираю ее как нужную. Читатель меня не заботит. На мой взгляд, писатель пишет так, как он может, а не так, как он хочет. Писатель хотел бы писать для всех, но не получается… увы!
- Я уже встречала подобные рассуждения в одном из ваших интервью. Но разве Набокову, Пушкину не удалось подняться над собой, переломить?
- Думаю, они остались самими собой. Никто себя не ломал. Потому и узнаваемы они в каждой строчке. Набоков просто ушел на время в сторону, сочиняя более массовую «Лолиту», Пушкин же ни пяди своей никому не отдал. Писатель тем и отличается, что растет, как дерево. Высоко растет!.. Я смотрю сейчас на молодых. Пока они, как трава в степи, среди них есть все — и полынь, и зверобой, и растущий куст, и росток молодого дубка. Пока что они одного роста, едва различимы, но в каждом заложено свое. Трава сойдет осенью, через два-три года куст станет кустом, а там и дерево наберет силу. И никакого переламывания здесь нет. Каждый растет в свою собственную силу. Но здесь вопрос в другом: будет ли написанное долго звучать? Есть два процесса: созидание текста и потребление текста. Созидание — это дело писателя, потребление текста — дело общества. Общество может тебя признать сейчас или через триста лет, как Шекспира, но это уже проблема общества, проблема социума. Для писателя важнее создать хороший текст, а общественный смысл люди уж как-нибудь отыщут сами.
- Назовете авторов, которые близки Вам на сегодняшний день?
- Я читаю в основном старую литературу. На современников времени мало остается… Хотя сейчас интересна молодая проза. Есть несколько молодых писателей, которых я читал и читаю: Роман Сенчин, Захар Прилепин, Илья Кочергин, Дмитрий Новиков, Александр Карасев.
- А чем еще занимаетесь помимо писательства?
- Я рыбак. Раньше каждое лето в течение десяти лет ездил ловить рыбу на Дон, на Урал, на Волгу. Сейчас живу за городом, у меня свой дом — это целое дело, есть сад, в котором хорошие яблоки, слива… Жить я стараюсь отдельно от литературы, ведь просто жить — тоже искусство. Жизнь сама по себе прекрасна. Она и литература — как две рельсы, которые помогают ехать одному поезду. Они зависят друг от друга, оттеняют друг друга. Но не пересекаются. Должно быть, существуют два отдельно осознанных мира… Бывают, конечно, совмещения. Жизненный сюжет иногда кажется интересней литературного, бывает наоборот. Иногда важен сам литературный образ. Иногда — твоя индивидуальность, ведь другой твоей жизни не будет.
- Ваши произведения затрагивают маленького человека. По-вашему, у каждого писателя должна быть ярко выраженная социальная позиция?
- Не обязательно. Если государство на социум не обращает внимания, если давит, тогда социальность в тексте заострена и важна. Если общество само активно заботится о социуме, можно не заострять… И тогда важнее эстетическая позиция. Меня долго не печатали в толстых журналах. И вдруг в 1984 г. в «Новом мире» опубликовали «Где сходилось небо с холмами». Сразу появилась персональная разгромная статья в «Правде». Один из главных упреков: искусство Маканина сродни искусству китайских ваз, непонятно, зачем оно. Писал ли я о социальной проблеме?.. Или о какой-то вечной проблеме?.. Не знаю. Однако же искусство китайских ваз — высшее искусство, я тогда просто обомлел от такого сравнения.
- И последний вопрос. В вашем рассказе «Ключарев и Алимушкин» один из персонажей затеял мысленный разговор с Богом про счастье. И Бог говорит: «Счастья мало. <…> Попробуй-ка одним одеялом укрыть восемь человек. Много ли достанется каждому?» А вам в жизни хватило счастья?
- Не знаю, счастье не меряется. Жизнь без трагических ударов уже похожа на счастье… Счастье — неуловимая вещь.