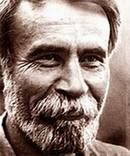Интернет-журнал «Частный корреспондент», май 2011
Интернет-журнал «Частный корреспондент», май 2011
Нет ничего привлекательнее, когда влюбленный человек рассказывает собеседнику, незнакомому с предметом обожания, про своего избранника и про свои чувства.
Я и сам пару раз ловился на красоту сообщения – долго-долго выслушивал трепетные ликования, начиная обливаться сладкой слюной, а потом в дверном проёме возникал этом, с позволения сказать, адресат и удивлению моему не было предела – где ж были её (или его) глаза, разглядевшие то, чего нет?
Когда человек любит, то он не говорит, а поёт – чистая интенция, переливаясь всеми цветами радуги, превращается в голую суггестию – в этом восторженном описании ты и ловишь суть любовного чувства, которое имеет минимальное отношение к конкретному человеку.
Именно на этом приёме переноса и построен новый роман Владимира Маканина, в котором живут и ведут бесконечные диалоги по телефону две сестры Тульцевы (странно, что не Пермяковы), старшая Ольга и младшая Инна.
Сидят в подвале. Болтают как чортовы куклы. Плачут, пьют шампанское. Держат авангардную студию (занятия начинаются в сентябре). Кормят прибившегося к застолью мальчика-заику, постоянно говорящего самые главные и самые важные слова в книге слова – Правду.
Ольга, старшая, искусствоведша, увлекающаяся Кандинским (диссертацию пишет) влюбляется сначала в начинающего политика Артёма, карьера которого идёт под откос из-за обвинений в стукачестве, затем (когда Артём бежит от позора к маме под Воронеж) в рок-музыканта Максима с наркоманскими замашками.
Инна внимает старшей, чтобы затем, след в след, влюбиться сначала в ораторствующего Артёма, затем в тратящего все деньги, но бесконечно талантливого Максима.
Да, действие происходит в начале 90-х, Оля и Инна – дочери известного диссидента, умершего после возвращения из ссылки, диалогов в романе в разы больше, чем описаний, из-за чего «Две сестры и Кандинский» кажется пьесой.
Точнее, текст этот пьесой и является. Беглые описания превращаются в ремарки. Постоянно истончающийся маканинский стиль, похожий на рваный ритм ручной кинокамеры, доходит до логического завершения.
Воздуха и пустоты в этой воздушной подушке, намекающей то на Чехова (подтекстами), то на Достоевского (страстями), а то на Розанова (варенье и чай), имевшего инициалы, одинаковые с Кандинским, больше, чем текста.
Постоянная смена ракурсов мучает, точно икота или заикание. Как физический недостаток.
Значит, ещё один репортаж о прошлом. Ещё один аргумент в споре о девяностых. Ещё одна книга о стукачах и диссидентах, точнее, о мужчинах и женщинах, их отношениях в конкретно-исторических условиях, бьющих по темечку. Ну, да, можно сказать, ответ Людмиле Улицкой. Её «Зелёному шатру», безусловно главной книге года.
Только у Улицкой музыка и поэзия, Нейгауз и Бродский, а у Маканина – соответственно, первый самый абстракционист, чья первая беспредметная работа, как известно (Ольга не даст соврать) появилась совершенно случайно.
Согласно апокрифу, непросохший, только что законченный пейзаж, де, соскользнул с мольберта, ударился об пол, обернувшись первым в истории мировой живописи абстрактным полотном.
То есть, снова повседневность. Опять «простая жизнь» и фиксация «вещества жизни», которое в обычном состоянии прозрачно (и, оттого, невидимо), подсвеченное для проявки внешними (общественными) обстоятельствами.
Ну, то есть, это я так прочитал «Две сестры и Кандинский», а любой другой может прочитать роман по-своему.
Он нарочно так придуман и сделан, чтобы было про всё, что угодно – суггестии здесь больше чем ремарок, хоть завтра в сценарий превращай. Или же в нервный спектакль для театра с претензией.
Почему пьеса в тяжеловесной эстетике перестроечной чернухи, прикидывающаяся водевилем? Выспренная вычурная усохшая условность с постоянным стремлением в Питер вместо Москвы, со странной логикой психологических мотивировок, возможных только без четвёртой стены.
Условная условность с интеллигентскими разговорами на котурнах (в жизни так не разговаривают).
Примерно такими.
«— Сергей Сергеич!.. Неужели вы, арбатский человек, не помните, как раньше ломился на такие лакомства народ… Только рот открой — мол, будут два правильных слова о Кандинском. Уже бы к вечеру пол-Москвы набежало… Подполье. Настоящий андеграунд!.. Известнейший был московский подвал. И шизы, конечно… Уже со справками… Залеченные психотропными препаратами! Поди тронь! С нелиповой бумажкой из Института Сербского… Тусовка инакомыслящих. Пророки! Гении! Безбашенные поэты и поэтессы! Где они все сейчас? Куда они делись?.. Где их гневные слезы? Где их интеллектуальное мщение? Где их вопли, их злые страдальческие проклятья?.. Я их потерял из виду!.. Вы заметили, с какой скоростью они кончились?.. Рынок сдул их с московской земли в считанные дни. Они исчезли. Рынок их перемолол. Их прикончили ножками Буша! Соевыми дешевыми концентратами!..»
Подвал (рядом пивная). Постоянное отключение света. Обрывы телефонных разговоров (подслушивают?). Мятые репродукции на сводах. Все многозначно и многозначительно: Маканин постарался. Мужчина – Женщина. Питер – Москва. Европа – Азия. Политика – Искусство. Сплошные большие буквы. Миндадзе – Абдрашитов. С обязательными многоточиями (причём, не только в финале). Между трактатом и памфлетом. Очерком и притчей.
Но почему именно Кандинский? Потому что автор трактата «О духовном в искусстве»? Или же из-за «синдрома Кандинского», известного в медицине (Синдроом психиического автоматиизма, псевдогаллюцинации, бредовые идеи воздействия (психологического и физического характера) и явления психического автоматизма (чувство отчуждённости, неестественности, «сделанности» собственных движений, поступков и мышления)?
Или же из-за рефрена про «случайности красок», которые вычитаны в аннотации к развешенным по стенам богемного подвала репродукциям?
Последнее к истине ближе всего. «Две сестры и Кандинский» построен таким образом, чтобы его можно было оборвать или продолжить в любом месте. Намечаемая было симметрия быстро снимается, многочисленные реалии и отсылки, задающие неповторимый узор интерпретации, сыплются одна за другой по принципу случайных касаний – де, что-нибудь, в конечном счёте, да и получится.
Кажется, важнее всего Маканину продемонстрировать логику инополагания, легко конвертируемую в непредсказуемость (главное достоинство любого беллетристического текста).
Этот свой текст, в качестве примера, я решил построить по схожим принципам. Но оммажа не получилось — признаюсь, я не выдержал чистоты стиля, не смог: ведь в отличие от Маканина, стараюсь объяснять то, что делаю.
Чехов тоже, конечно же, предельно суггестивный автор, прячущий клубки запутанных взаимоотношений между персонажами в подтекст.
Но, в отличие от двух сестёр Маканина, в классических «Трёх сёстрах» механизм допуска читателя до замысла, сохранён.
Он спрятан, но, тем не менее, существует.
Тогда как единственное, что связывает новую книгу Маканина с читательскими ожиданиями – общее прошлое, такое же, впрочем, зыбкое, как и наши различные представления о «лихих» или же «ренессансных» 90-х.
Нарочитая субъективность повествования, полная лакун, дыр и умолчаний, жар неопределённости и истерическая взвинченность, имитирующая то ли кинематографическое сырьё, то ли стихийно записанные видеоматериалы (нервный монтаж, смазанность фокуса), свойственные маканинскому стилю, говорят о том, что у писателя самого нет полного понимания предмета, который он изучает.
Маканин, как и все мы, находится внутри этого мощного исторического потока; его, как всех нас, несёт куда-то в неизведанное.
Единственное, что возможно в такой ситуации, это фиксировать движение заоконного пейзажа.
Маканин не осмысливает то, что происходило, но пытается свидетельствовать. Как может.
Тоже ценность. Тоже результат.