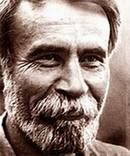Фрагменты того, что стало в итоге романом «Испуг» (М., «Гелеос»), Владимир Маканин печатал в «Новом мире» пять лет (2001—2006). Сперва с отсылками к складывающемуся циклу «Высокая-высокая луна»; в осенних номерах этого года, где появились рассказы «Нимфа», «Старики и Белый дом» и «Старость, пятая кнопка», — к роману, выход которого практически совпал с последними журнальными публикациями.
Фрагменты того, что стало в итоге романом «Испуг» (М., «Гелеос»), Владимир Маканин печатал в «Новом мире» пять лет (2001—2006). Сперва с отсылками к складывающемуся циклу «Высокая-высокая луна»; в осенних номерах этого года, где появились рассказы «Нимфа», «Старики и Белый дом» и «Старость, пятая кнопка», — к роману, выход которого практически совпал с последними журнальными публикациями.
Выстраивая роман, Маканин вывел за его пределы три рассказа — «Однодневную войну» (с которой когда-то все начиналось — еще без участия охочего до молодого женского тела старикана Петра Петровича Алабина), вяловатых «Долгожителей», «Могли ли демократы написать гимн» (этот злорадно отчаянный, царапающий, опус много кому особенно понравился, а кое-кого, например меня, поверг в тоску и досаду) и повесть «Коса — пока роса», в которой неуемному жизнелюбу Петру Петровичу пришлось-таки успокоиться в объятиях вечной старушенции (ее же, как легко догадаться из заголовка, никто не минует). О повести этой я писал по ее выходе (два года назад). Вопрос о том, почему автор, отправив на тот свет друзей-сверстников Петра Петровича («Старость, пятая кнопка», только в книге обнародованный рассказ «Петр Иванович в свободном полете»), замотал историю о финишном броске протагониста, по идее должен бы возбуждать интерпретаторскую фантазию. Но ничего занятного придумать не удается. Может, решил Маканин, что для Петра Петровича будет сделано исключение, что не доберется костлявая до живчика, который и на психоаналитических сеансах предпочел волшебным нимфам с живописных полотен живую хромоножку в соседнем окне («Нимфа»), и на «пятую кнопку» (телеканал «Культура» с его благородными сказками) в отличие от давнего дружка и многих иных сверстников не подсел (то есть за гостевой вечерок еще как втянулся в пушкинско-матиссовско-бетховенское небытие, но потом, хоть и с трудом, дотумкал: рановато еще), и от разъяренных его посягательствами красавиц и их туповатых сожителей всегда (пусть не без потерь) ускользал (сквозной мотив романа энергично развит в новых фрагментах — «Мордобой» и «Мои воровские ночи», последний готовит купированную повесть о победе смерти, возникает в нем тень старухи-уборщицы, но все же пока ей герой не по косе)… А может, просто пожалел писатель своего старикана. И заодно читателя — мол, конечно, никуда никому не деться, но пусть хоронят Петровича другие.
Которые и хоронить-то по-людски не умеют. В «Боржоми», рассказе о первом лунно-эротическом приключении Петровича, есть побочная линия — история странной тетки, которую родственники держат взаперти. Петрович с Иванычем мечтают о свидании и совместной выпивке с узницей (собственно, пошедший на разведку Петрович «заблудился» и попал в постель к красотке-племяннице), но она нежданно умирает. Гроб ее несут четверо молодых крепких шизофреников из соседнего дурдома. «Я мог бы поклясться, что за мою долгую жизнь это впервые, когда несущие — соответствуют. Когда соответствуют ноше…» Вот так-то, смерть — дебильство. И «примеренная» старость — такое же дебильство. Хоть на «пятой кнопке» сиди, хоть пытайся обустроить ее законным браком (придут крепкие, уже тоже немолодые дети и попросту морды набьют «жениху с невестой»), хоть глотай исторические романы о том, как наши отбивались от половцев с монголами да немцами, хоть лечись, глядючи на шедевры мировой живописи, от сатировских комплексов, хоть глазей на обстреливаемый в октябре 93-го Белый дом, тешась грезой о том, что здесь, дескать, рождается новая Россия…
Хрен вам, а не новая Россия. Власть вам новая будет. Со своими заморочками. С новой свирепостью похуже прежней. «Если парень раскрепощается и набирается крутой злости через секс, это норма (как ни жутко звучит), это нормально, и он по жизни еще все успеет… (Как «успел» рассуждающий о горькой участи своего внучатого племянника, контуженного в Чечне Олежки, наш Петр Петрович. Или он не успел? Не добрал, хоть и рассеял по свету жен, в чьих именах нынче путается, и безымянных детей? Вспомнишь тут маканинского «Гражданина убегающего». — А. Н.) Но перестановка «секса» и «насилия» все меняет. И если раскрепощение парня началось с насилия и убийств, продолжения не видно — и никаких других раскрепощающих дорог нет. Эти люди в будущем (эти парни) совсем не обязательно уголовники. Они не обязательно злы, безжалостны и круты на расправу. Они не обязательно наши начальники. Милейшие и мирные могут быть люди. (После того как убивали других.) Они как мы. Однако им всегда будет понятнее и предпочтительнее видеть мир (и людей) через перекрестье прицела «кто кого осилил». А не через замочную скважину «кто там кого имеет… любит или не любит».
Таившиеся до выхода книги рассказы об отвоевавшемся импотенте Олежке — «В утробе» и (особенно) «Танки проехали» — сложно соотнесены с «революционным» сюжетом, развитым в «Белом доме без политики» (прежде просто «Без политики») и «Стариками и Белым домом». Одни стреляют, другие глазеют. Те, что стреляли, потом не смогут даже глазеть. Те, что глазели, ничего не выглядят. Уж лучше рвануть в Белый дом с двадцатилетней шлюшкой-наркоманкой (там она надеется разжиться у дружков надлежащей спасительной отравой), чем пялиться на него, как на эффектный кадр душещипательной исторической кинушки. Уж лучше бегать голышом по верховносоветской крыше и мочиться на «исторический момент», чем сверзиться с крыши собственной подгнившей дачки, чинить которую понесло затравленного попреками стервоз-дочек бедолагу Иваныча. Сочувствовать можно и «культурным наркоманам» (старикам, что подсели сперва на политику, а потом — на художество), и «наркоманам диким» («танковой» молодежи). Сочувствовать, ни на миг не задумавшись о том, почему с теми и этими сталось так, а не иначе, почему сам ты промыкал такую жизнь и чего она твоим близким (не говорю уж — твоей стране) стоила, — это мы всегда готовы. А жить будем под высокой-высокой луной — не веря ложному испугу похотливой нимфы, глуша дурацкий собственный испуг, навязанный всякими Аполлонами (Петрович помнит, что бог солнца и искусств содрал с зарвавшегося сатира Марсия шкуру), психиатрами и властителями. Жизнь дается человеку только один раз, но давать она (в лице множества только внешне различающихся баб) может долго — до тех пор, пока ты своего требуешь.
Маканин назвал роман о Петре Петровиче «Испуг», вероятно, лишь потому, что заголовок более правильный — «Герой нашего времени» — он уже использовал раньше.
Оригинал «Время Новостей» N°228, 11 декабря 2006